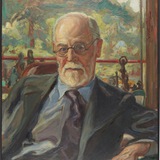Ранний травматический опыт бывает настолько непереносим, что не может быть удержан в рамках связного, цельного и непрерывного переживания самости. В таких случаях диссоциация является единственным средством сохранить себя в невыносимых условиях.
В дальнейшем психика человека делает все возможное, чтобы не помнить этой непереносимой боли, но эта боль помнит его. Она прорывается беспокоящими сквозняками, отголосками пугающего опыта. Из-за того, что психика однажды решила "забыть" про то, о чем невозможно помнить, подобные сквозняки остаются лишь непонятными беспокоящими симптомами, не имеющими ни имени, ни истории.
Это пугающее неопределенное нечто является зовом древней и позабытой, "детской", части самости, которая ищет выхода на свет, жаждет получить голос. Внутри есть что-то, что хочет быть прожитым. Но пережить это невозможно. Текущая психическая организация таких людей не способна впустить в себя этот опыт, переварить и ассимилировать его. Более того, структура их личности формировалась с целью НЕ переживать этот опыт.
Человек вынужден прятать себя от себя. Делать части себя не-собой, лишать их существования, анестезировать пласты своего "я". Таким образом, внутри разворачивается тот же процесс, который когда-то происходил в ранних отношениях с родителем. То, что когда-то было не распознано значимыми другими, не может прорваться в существование во внутрипсихическом пространстве.
"Внешнее" выживание в невыносимых условиях преобразуется во "внутреннюю" оккупацию психики невидимыми врагами. Травма образует замкнутый круг, в котором повторяет сама себя.
Текст: Голланд Этель и Левчук Александр
#травма
#диссоциация
В дальнейшем психика человека делает все возможное, чтобы не помнить этой непереносимой боли, но эта боль помнит его. Она прорывается беспокоящими сквозняками, отголосками пугающего опыта. Из-за того, что психика однажды решила "забыть" про то, о чем невозможно помнить, подобные сквозняки остаются лишь непонятными беспокоящими симптомами, не имеющими ни имени, ни истории.
Это пугающее неопределенное нечто является зовом древней и позабытой, "детской", части самости, которая ищет выхода на свет, жаждет получить голос. Внутри есть что-то, что хочет быть прожитым. Но пережить это невозможно. Текущая психическая организация таких людей не способна впустить в себя этот опыт, переварить и ассимилировать его. Более того, структура их личности формировалась с целью НЕ переживать этот опыт.
Человек вынужден прятать себя от себя. Делать части себя не-собой, лишать их существования, анестезировать пласты своего "я". Таким образом, внутри разворачивается тот же процесс, который когда-то происходил в ранних отношениях с родителем. То, что когда-то было не распознано значимыми другими, не может прорваться в существование во внутрипсихическом пространстве.
"Внешнее" выживание в невыносимых условиях преобразуется во "внутреннюю" оккупацию психики невидимыми врагами. Травма образует замкнутый круг, в котором повторяет сама себя.
Текст: Голланд Этель и Левчук Александр
#травма
#диссоциация
👍2
[Венгерский психоаналитик, ученик З. Фрейда, Шандор] Ференци рассматривал диссоциацию как ответную реакцию на травму. Понимание диссоциации у Ференци совпадает с мнением других авторов; он видит диссоциацию как исключение психически непереносимого опыта из непосредственного восприятия реальности.
Диссоциация, идентификация и интроекция оперируют в комплексе в момент травмы. Как именно это происходит?
- Во время атаки с целью подавления и принуждения, которую жертва нападения не может избежать (чаще всего просто потому что нападение совершается неожиданно), жертва сдаётся на милость агрессора. Отказывается от чувства самости, от своих собственных привычных реакций и личных чувств, то есть, диссоциирует огромный пласт личного опыта, так как сохранить в неприкосновенности свою личность в ситуации витального риска значительно увеличило бы угрозу для жизни жертвы. Происходит диссоциация.
Надеясь выжить, жертва использует свою способность идентифицироваться с агрессором, “переделывая” свою психику и поведение таким образом, чтобы её образ не вызывал бы в агрессоре желания продолжать насилие или увеличивать его масштабы. Происходит идентификация с агрессором. Одновременно, жертва вбирает в себя (происходит интроекция) отдельные (переносимые) аспекты внешней ситуации и создаёт с их помощью фантазии, которые в дальнейшем позволили бы ей выживать.
#психоанализ
#диссоциация
#травма
#идентификация_с_агрессором
Диссоциация, идентификация и интроекция оперируют в комплексе в момент травмы. Как именно это происходит?
- Во время атаки с целью подавления и принуждения, которую жертва нападения не может избежать (чаще всего просто потому что нападение совершается неожиданно), жертва сдаётся на милость агрессора. Отказывается от чувства самости, от своих собственных привычных реакций и личных чувств, то есть, диссоциирует огромный пласт личного опыта, так как сохранить в неприкосновенности свою личность в ситуации витального риска значительно увеличило бы угрозу для жизни жертвы. Происходит диссоциация.
Надеясь выжить, жертва использует свою способность идентифицироваться с агрессором, “переделывая” свою психику и поведение таким образом, чтобы её образ не вызывал бы в агрессоре желания продолжать насилие или увеличивать его масштабы. Происходит идентификация с агрессором. Одновременно, жертва вбирает в себя (происходит интроекция) отдельные (переносимые) аспекты внешней ситуации и создаёт с их помощью фантазии, которые в дальнейшем позволили бы ей выживать.
#психоанализ
#диссоциация
#травма
#идентификация_с_агрессором
👍161
Большинство страдающих пограничными расстройствами личности (ПРЛ) часто лечатся у психиатров общего профиля и у бригад психического здоровья из-за связанных с этим расстройством состояний депрессии, настойчивых самоповреждений, различных злоупотреблений и пищевых нарушений.
Работа с этими пациентами трудна из-за крайностей в их настроении и поведении, а также из-за их общей тенденции становиться сверхзависимыми или впадать в ярость по отношению к другим, тенденции, которая распространяется и на отношения с медицинским персоналом. Без понимания такого поведения обращение с ними может легко стать реактивным или неоправданно дисциплинарным.
Пограничные пациенты склонны к внезапным и доставляющим неудобства переключениям между диаметрально противоположными состояниями, причины которых не всегда очевидны для самого пациента или наблюдателей. Такие переключения часто сопровождаются сменой позы, выражения лица и интонации и, временами, переживаниями деперсонализации-дереализации, как это описано Путманом (1994).
Эти переживания и многие из разнообразных симптомов, которые описываются как типичные для пограничного пациента, в предлагаемой модели понимаются как результат переключения между частично диссоциированными состояниями самости. У пограничных пациентов имеется небольшое количество таких состояний самости, для каждого из которых существует характерный паттерн процедур обоюдных ролей и сопровождающее его настроение, поведение и симптомы.
Этот паттерн частичной диссоциации находится на континууме между нормальной нестабильностью настроения и зависящими от состояния воспоминаниями с одной стороны, и глубокими диссоциациями между субличностями или "противоположностями", которые обнаруживаются при расстройствах с диссоциацией идентичности, с другой стороны. (Svostak et al, 1994).
Уровнями диссоциации, которые имеют клиническое значение и типичны для ПРЛ, считаются те, при которых изменения внезапны, во многих случаях ничем явным не спровоцированы, доставляют неудобства индивидууму и окружающим его людям и могут привести к поведению, не соответствующему ситуации. Некоторые состояния сопровождаются более экстремальным настроением и поведением, чем то которое обычно встречается у нормальных и невротических личностей.
Источник: Райл Э. Модель структуры и развития пограничного расстройства личности.
#пограничное_расстройство_личности
#диссоциация
Работа с этими пациентами трудна из-за крайностей в их настроении и поведении, а также из-за их общей тенденции становиться сверхзависимыми или впадать в ярость по отношению к другим, тенденции, которая распространяется и на отношения с медицинским персоналом. Без понимания такого поведения обращение с ними может легко стать реактивным или неоправданно дисциплинарным.
Пограничные пациенты склонны к внезапным и доставляющим неудобства переключениям между диаметрально противоположными состояниями, причины которых не всегда очевидны для самого пациента или наблюдателей. Такие переключения часто сопровождаются сменой позы, выражения лица и интонации и, временами, переживаниями деперсонализации-дереализации, как это описано Путманом (1994).
Эти переживания и многие из разнообразных симптомов, которые описываются как типичные для пограничного пациента, в предлагаемой модели понимаются как результат переключения между частично диссоциированными состояниями самости. У пограничных пациентов имеется небольшое количество таких состояний самости, для каждого из которых существует характерный паттерн процедур обоюдных ролей и сопровождающее его настроение, поведение и симптомы.
Этот паттерн частичной диссоциации находится на континууме между нормальной нестабильностью настроения и зависящими от состояния воспоминаниями с одной стороны, и глубокими диссоциациями между субличностями или "противоположностями", которые обнаруживаются при расстройствах с диссоциацией идентичности, с другой стороны. (Svostak et al, 1994).
Уровнями диссоциации, которые имеют клиническое значение и типичны для ПРЛ, считаются те, при которых изменения внезапны, во многих случаях ничем явным не спровоцированы, доставляют неудобства индивидууму и окружающим его людям и могут привести к поведению, не соответствующему ситуации. Некоторые состояния сопровождаются более экстремальным настроением и поведением, чем то которое обычно встречается у нормальных и невротических личностей.
Источник: Райл Э. Модель структуры и развития пограничного расстройства личности.
#пограничное_расстройство_личности
#диссоциация
👍93
Продолжим наши библейские чтения (шутка). Понятие «бессознательного» уже было. Теперь поговорим о том, что такое «диссоциация» в Новом Завете. В Евангелие от Матфея, глава 6 стих 3 (т.н. Нагорная проповедь) мы читаем: «Когда творишь милостыню, пусть левая твоя рука не знает что делает правая».
Итак, человек например, может думать, что он (после череды мерзких запоев, стоивших ему репутации и карьеры) перестал любить алкоголь и... прекрасно продолжает пить (но уже без любви).
Другой, будучи банкротом, должником десятков МФО, давно принципиально не отвечающий на телефонные звонки (ибо звонят исключительно кредиторы и коллекторы), может люто ненавидеть азартные игры и владельцев онлайн казино. Он способный видеть насквозь все манипуляции представителей игорной индустрии (с их «промо», бонусами, розыгрышами, удвоенным депозитом и пр.) и при этом... продолжает играть, как ни в чем не бывало.
Третий, не получает никакого удовольствия от веществ, а только боль, разочарование и жгучий стыд, но продолжает их употребление.
Все это звучит, на первый взгляд, весьма парадоксально, однако раскрывает «окончательную» истину о «зависимости». Сильнее всего она сохраняется в попытке создания и поддержания некой искусственной дистанции (между тем, что я чувствую, думаю и делаю). Ибо ее «природа» – это диссоциация.
Диссоциация – с одной стороны предполагает отсутствие интеграции между восприятием, осознанием и памятью, но с другой стороны, напротив, она как бы создает некий обособленный «центр принятия решений», состоящий из фрагментов личности, особого переживания и поведенческого стереотипа (автоматизма). Это переживание, плюс часть самого человека отщепляются и вычеркиваются из пространства саморефлексии.
Поэтому человек может чистосердечно ненавидеть наркотики, продолжать их употреблять и говорить, что давно «бросил». Его «левая рука не знает [и не хочет знать] что делает правая».
© Автономов Денис
#размышления
#зависимость
#диссоциация
Итак, человек например, может думать, что он (после череды мерзких запоев, стоивших ему репутации и карьеры) перестал любить алкоголь и... прекрасно продолжает пить (но уже без любви).
Другой, будучи банкротом, должником десятков МФО, давно принципиально не отвечающий на телефонные звонки (ибо звонят исключительно кредиторы и коллекторы), может люто ненавидеть азартные игры и владельцев онлайн казино. Он способный видеть насквозь все манипуляции представителей игорной индустрии (с их «промо», бонусами, розыгрышами, удвоенным депозитом и пр.) и при этом... продолжает играть, как ни в чем не бывало.
Третий, не получает никакого удовольствия от веществ, а только боль, разочарование и жгучий стыд, но продолжает их употребление.
Все это звучит, на первый взгляд, весьма парадоксально, однако раскрывает «окончательную» истину о «зависимости». Сильнее всего она сохраняется в попытке создания и поддержания некой искусственной дистанции (между тем, что я чувствую, думаю и делаю). Ибо ее «природа» – это диссоциация.
Диссоциация – с одной стороны предполагает отсутствие интеграции между восприятием, осознанием и памятью, но с другой стороны, напротив, она как бы создает некий обособленный «центр принятия решений», состоящий из фрагментов личности, особого переживания и поведенческого стереотипа (автоматизма). Это переживание, плюс часть самого человека отщепляются и вычеркиваются из пространства саморефлексии.
Поэтому человек может чистосердечно ненавидеть наркотики, продолжать их употреблять и говорить, что давно «бросил». Его «левая рука не знает [и не хочет знать] что делает правая».
© Автономов Денис
#размышления
#зависимость
#диссоциация
👍137
[Психоаналитик] Уилфред Бион отмечал, что чем больше ситуация людей окрашена преследованием и горечью, тем дальше заходят их проекции.
Аргентинский психоаналитик Саломон Резник указывал на то, что чем больше жизненный опыт человека наполнен ощущениями преследования или депрессивно окрашенными переживаниями и чем больше человек переживает физической боли, тем сильнее у него потребность отделиться от собственного телесного «Я» путем расщепления тела и души.
Некоторая степень расщепления – это часть нормальной жизни, чрезмерное же расщепление может привести к тяжелым психопатологическим явлениям, таким как деперсонализации или раздвоение личности, и стать угрозой целостности самости.
Страдание, психическая боль, возникающая в результате отвержения, может стать столь невыносимой, что человек начинает нападать на самого себя, на свою психику, на свой аппарат, воспринимающий и осознающий этот факт (реальность).
Так происходит защитный отказ – нежелание воспринимать то, что болезненно.
В «Элементах психоанализа» У. Бион писал: «Дезинтеграция характерна для пациентов, которые не в состоянии выносить реальность, и по этой причине они разрушают аппарат, дающий им возможность осознавать свое состояние».
В результате этого защитного процесса у субъекта нарастает путаница между субъективными идеями (ожиданиями, планами) и реальными объектами внешнего мира.
Из-за ментальной путаницы человек начинает использовать по отношению к умственным и эмоциональным процессам действия, которые применимы при решении проблем с реальными физическими объектами.
И, соответственно, когда речь идет о трудностях во внешнем мире, человек пытается использовать свое мышление (например, бесплодно фантазирует, разговаривает сам собой, проигрывает в своей голове сцены) там, где необходимо совершить поступок, решить проблему, вступить в коммуникацию или в иное реальное взаимодействие с объектом.
Дифференциация между фантазией и реальностью становится более трудной.
Смешивание образов, фантазий и реальных объектов лишь углубляет конфликт из-за создания фальшивых, ложных закономерностей.
Избирательное игнорирование сигналов, исходящих из среды, приводит, в конце концов, к неэффективному функционированию в ней, и, как следствие, к нарастанию страданий и к еще большей фрустрации.
В результате человек начинает еще сильнее ненавидеть свою собственную психику, так как психика это инструмент для связи с реальностью, которая для него становиться слишком болезненной.
Испытываемая стигма и самостигматизация является предиктором для большего избегания и изоляции как копинговой стратегии, она уменьшает чувство надежды, усиливает социальную тревожность, ухудшает качество жизни и ослабляет когнитивные функции.
Источник: Автономов Д. А., Михайлов М. А. Стигматизация, испытываемая стигма и самостигматизация. Кляйнианский подход к пониманию проблемы //Психическое здоровье. – 2017. – Т. 15. – №. 9. – С. 54-60.
#стигма
#зависимость
#диссоциация
Аргентинский психоаналитик Саломон Резник указывал на то, что чем больше жизненный опыт человека наполнен ощущениями преследования или депрессивно окрашенными переживаниями и чем больше человек переживает физической боли, тем сильнее у него потребность отделиться от собственного телесного «Я» путем расщепления тела и души.
Некоторая степень расщепления – это часть нормальной жизни, чрезмерное же расщепление может привести к тяжелым психопатологическим явлениям, таким как деперсонализации или раздвоение личности, и стать угрозой целостности самости.
Страдание, психическая боль, возникающая в результате отвержения, может стать столь невыносимой, что человек начинает нападать на самого себя, на свою психику, на свой аппарат, воспринимающий и осознающий этот факт (реальность).
Так происходит защитный отказ – нежелание воспринимать то, что болезненно.
В «Элементах психоанализа» У. Бион писал: «Дезинтеграция характерна для пациентов, которые не в состоянии выносить реальность, и по этой причине они разрушают аппарат, дающий им возможность осознавать свое состояние».
В результате этого защитного процесса у субъекта нарастает путаница между субъективными идеями (ожиданиями, планами) и реальными объектами внешнего мира.
Из-за ментальной путаницы человек начинает использовать по отношению к умственным и эмоциональным процессам действия, которые применимы при решении проблем с реальными физическими объектами.
И, соответственно, когда речь идет о трудностях во внешнем мире, человек пытается использовать свое мышление (например, бесплодно фантазирует, разговаривает сам собой, проигрывает в своей голове сцены) там, где необходимо совершить поступок, решить проблему, вступить в коммуникацию или в иное реальное взаимодействие с объектом.
Дифференциация между фантазией и реальностью становится более трудной.
Смешивание образов, фантазий и реальных объектов лишь углубляет конфликт из-за создания фальшивых, ложных закономерностей.
Избирательное игнорирование сигналов, исходящих из среды, приводит, в конце концов, к неэффективному функционированию в ней, и, как следствие, к нарастанию страданий и к еще большей фрустрации.
В результате человек начинает еще сильнее ненавидеть свою собственную психику, так как психика это инструмент для связи с реальностью, которая для него становиться слишком болезненной.
Испытываемая стигма и самостигматизация является предиктором для большего избегания и изоляции как копинговой стратегии, она уменьшает чувство надежды, усиливает социальную тревожность, ухудшает качество жизни и ослабляет когнитивные функции.
Источник: Автономов Д. А., Михайлов М. А. Стигматизация, испытываемая стигма и самостигматизация. Кляйнианский подход к пониманию проблемы //Психическое здоровье. – 2017. – Т. 15. – №. 9. – С. 54-60.
#стигма
#зависимость
#диссоциация
👍168
...У трети пациентов неврологических клиник выявляются симптомы, которые нельзя объяснить с медицинской точки зрения. Ранее такие случаи относились к истерическим.
В настоящее время пациентам с физическими симптомами (например, с такими, как паралич), но без явных повреждений мозга выставляется диагноз функционального неврологического расстройства (ФНР).
...Уместно вспомнить спор между Теодором Мейнертом и Жаном-Мартеном Шарко о том, является ли «истерия – великой симулянткой» («la grande simulatrice»).
По сути, дискуссия велась вокруг вопроса о том, почему функциональные неврологические и психические симптомы признаются симптомами, а не манипуляцией или симуляцией?
Тогда была высказана идея о том, что в рамках истерии «организм обманывает сам себя», а не человек обманывает других для достижения корыстных целей.
Позже специалисты пришли к выводу о наличии при диссоциативных расстройствах мотива «вторичной невротической выгоды» – поведения человека, направленного на избегание, компенсацию или вытеснение из сознания психотравмирующей жизненной ситуации и связанных с ней страданий.
Помимо перечисленных «новых истерических диагнозов» в классификациях психических и поведенческих расстройств появился диагноз «диссоциативный подтип посттравматического стрессового расстройства», в рамках которого обнаруживалось сочетание и тесное переплетение психопатологических и неврологических симптомов перечисленных заболеваний.
В последние годы участилось обращение за помощью в связи с диссоциативными трансами и состояниями одержимости, синдромом Ганзера, деперсонализацией и дереализацией.
Кроме этого, к диссоциативным по механизмам возникновения стали относить предменструальное дисфорическое расстройство, соматоформные расстройства, эндометриоз, фибромиалгию, трансгендерность, посттравматическое стрессовое расстройство, функциональное когнитивное расстройство.
На основании использования шкалы диссоциативного опыта были получены данные о том, что диссоциативные симптомы представлены не только в рамках собственно диссоциативных, но и иных психических расстройств.
Наиболее часто они встречаются при ДРИ, но также входят в структуру ПТСР, ПРЛ, чуть реже нервной булимии и патологического гемблинга. Самая низкая их представленность в рамках биполярного аффективного и тревожных расстройств.
В ряду диагнозов, прямо называемых «новой истерией», выделяется пограничное расстройство личности (ПРЛ). Считается, что симптоматика ПРЛ, как правило, носит характер драматизации, рассчитанности на внешний эффект, возможно, именно поэтому ПРЛ в DSM-5 отнесено к кластеру В, обозначаемому как «расстройства личности драматизированные».
С диссоциативными расстройствами ассоциированы многие симптомы ПРЛ – деперсонализация, нарушения самоидентификации, самоповреждения (селфхарм) и самонаказания.
Таким образом, анализ современных представлений о диссоциативных расстройствах демонстрирует расширение круга психопатологии, причисляемой к диссоциативным, появление «новой истерии» и существенного увеличения доли пациентов с подобной патологией.
Причем такие пациенты оказываются, как правило, в поле зрения неврологов и лишь затем часть из них перенаправляется к психиатрам.
Следует согласиться с мнением L.G. Ortega о том, что «истерия, вызывавшая недоумение в медицине, возвращается, разрезанная на части, в виде многочисленных расстройств».
Менделевич В.Д. «Новая истерия»: диссоциативные расстройства в психоневрологической практике. Психиатрия и психофармакотерапия. 2024; 4: 35–38. DOI: 10.62202/2075-1761-2024-26-4-35-38.
Полный текст можно скачать тут: https://tttttt.me/mendpsy/300
#истерия
#диссоциация
#клиника
#пограничное_расстройство_личности
В настоящее время пациентам с физическими симптомами (например, с такими, как паралич), но без явных повреждений мозга выставляется диагноз функционального неврологического расстройства (ФНР).
...Уместно вспомнить спор между Теодором Мейнертом и Жаном-Мартеном Шарко о том, является ли «истерия – великой симулянткой» («la grande simulatrice»).
По сути, дискуссия велась вокруг вопроса о том, почему функциональные неврологические и психические симптомы признаются симптомами, а не манипуляцией или симуляцией?
Тогда была высказана идея о том, что в рамках истерии «организм обманывает сам себя», а не человек обманывает других для достижения корыстных целей.
Позже специалисты пришли к выводу о наличии при диссоциативных расстройствах мотива «вторичной невротической выгоды» – поведения человека, направленного на избегание, компенсацию или вытеснение из сознания психотравмирующей жизненной ситуации и связанных с ней страданий.
Помимо перечисленных «новых истерических диагнозов» в классификациях психических и поведенческих расстройств появился диагноз «диссоциативный подтип посттравматического стрессового расстройства», в рамках которого обнаруживалось сочетание и тесное переплетение психопатологических и неврологических симптомов перечисленных заболеваний.
В последние годы участилось обращение за помощью в связи с диссоциативными трансами и состояниями одержимости, синдромом Ганзера, деперсонализацией и дереализацией.
Кроме этого, к диссоциативным по механизмам возникновения стали относить предменструальное дисфорическое расстройство, соматоформные расстройства, эндометриоз, фибромиалгию, трансгендерность, посттравматическое стрессовое расстройство, функциональное когнитивное расстройство.
На основании использования шкалы диссоциативного опыта были получены данные о том, что диссоциативные симптомы представлены не только в рамках собственно диссоциативных, но и иных психических расстройств.
Наиболее часто они встречаются при ДРИ, но также входят в структуру ПТСР, ПРЛ, чуть реже нервной булимии и патологического гемблинга. Самая низкая их представленность в рамках биполярного аффективного и тревожных расстройств.
В ряду диагнозов, прямо называемых «новой истерией», выделяется пограничное расстройство личности (ПРЛ). Считается, что симптоматика ПРЛ, как правило, носит характер драматизации, рассчитанности на внешний эффект, возможно, именно поэтому ПРЛ в DSM-5 отнесено к кластеру В, обозначаемому как «расстройства личности драматизированные».
С диссоциативными расстройствами ассоциированы многие симптомы ПРЛ – деперсонализация, нарушения самоидентификации, самоповреждения (селфхарм) и самонаказания.
Таким образом, анализ современных представлений о диссоциативных расстройствах демонстрирует расширение круга психопатологии, причисляемой к диссоциативным, появление «новой истерии» и существенного увеличения доли пациентов с подобной патологией.
Причем такие пациенты оказываются, как правило, в поле зрения неврологов и лишь затем часть из них перенаправляется к психиатрам.
Следует согласиться с мнением L.G. Ortega о том, что «истерия, вызывавшая недоумение в медицине, возвращается, разрезанная на части, в виде многочисленных расстройств».
Менделевич В.Д. «Новая истерия»: диссоциативные расстройства в психоневрологической практике. Психиатрия и психофармакотерапия. 2024; 4: 35–38. DOI: 10.62202/2075-1761-2024-26-4-35-38.
Полный текст можно скачать тут: https://tttttt.me/mendpsy/300
#истерия
#диссоциация
#клиника
#пограничное_расстройство_личности
Telegram
Голос_психиатра
«НОВАЯ ИСТЕРИЯ»: ДИССОЦИАТИВНЫЕ РАССТРОЙСТВА В ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
Новая статья в журнале "Психиатрия и психофармакотерапия" (2024, 4).
www.academia.edu/123443653/_Новая_истерия_диссоциативные_расстройства_в_психоневрологической_практике
Новая статья в журнале "Психиатрия и психофармакотерапия" (2024, 4).
www.academia.edu/123443653/_Новая_истерия_диссоциативные_расстройства_в_психоневрологической_практике
👍114
...Феномен «хронической душевной пустоты» (в англоязычной литературе «чувство пустоты» — «feeling of emptiness») следует признать уникальным, поскольку, несмотря на учащение жалоб на подобное состояние, в психиатрических тезаурусах, словарях психиатрических терминов и перечнях симптомов данный феномен отсутствует...
E.D. Klonsky констатировал, что клиницистам трудно дать словесное описание «пустоты», эмпирических исследований данного феномена крайне мало, и пустота незначительно связана со скукой, но тесно сопряжена c чувством безнадёжности, одиночества и изолированности и является значимым предиктором депрессии и суицидальных мыслей, но не тревоги или попыток самоубийства.
Клинические наблюдения позволяют утверждать, что феномен душевной пустоты по сущностным характеристикам отличается от иных известных психопатологических симптомов — от чувства опустошённости, тоски, скуки, апатии.
«Душевная пустота» официально появилась в психиатрических классификациях лишь в 1980 г., когда в DSM-III-R был включён значимый для диагностики ПРЛ [пограничного расстройства личности] критерий «пустоты». Сегодня его именуют «седьмым критерием»...
Распространённость феномена «душевной пустоты» стремительно увеличивается, что, возможно, связано со значительным учащением диагностики ПРЛ. Так, по данным 20-летнего анализа уровня заболеваемости ПРЛ данное расстройство стало появляться в сотни раз чаще, чем ранее.
По мнению D. Elsner и соавт., именно феномен пустоты позволяет отличать ПРЛ от других психических расстройств, в частности от большого депрессивного расстройства [клинической депрессии].
В связи с этим следует признать значимым для постмодернистской реальности снижение толерантности по отношению к душевным страданиям, снижение порога «душевной чувствительности» и стремление избегать даже минимального эмоционального дискомфорта.
Пациенты с ПРЛ не способны сформировать последовательную самооценку. Вместо этого они принимают то, что можно было бы назвать
Вместо подавления их средства защиты состоят во временном расщеплении самости, исключающем прошлое и будущее как измерения постоянства объекта, привязанности, обязательств, ответственности и вины.
Многие пациенты к определению «душевная пустота» добавляют характеристику «зияющая», и этот феномен приобретает особый смысл. Зиять — это значит быть раскрытым, показывать, обнаруживать глубину, провал. «Зияющая душевная пустота» переживается как неразделённое глубокое чувство, нуждающееся в сопереживании или «встряске».
Ch. Hadson и соавт. причисляют «пустоту» к многогранной, трансдиагностической конструкции, одинаковой для разных диагнозов психических расстройств, за исключением ПРЛ, при котором «пустота» в значительно большей степени связана с диссоциацией...
Авторы выделяют несколько характеристик пустоты: бесцельность, отсутствие связи, оцепенение, самоуничижение, отсутствие идентичности, отсутствие мотивации, безнадёжность, ангедония, физические страдания, диссоциация.
Таким образом, анализ феномена «душевной пустоты» показывает, что психопатологически его следует трактовать как деперсонализацию, а не как депрессию или тревогу.
Вероятнее всего, деперсонализация при ПРЛ связана с механизмами диссоциации, при которых главную роль играют сложные механизмы с участием эмоциональной дизрегуляции и дезинтеграция схемы тела.
Источник: Менделевич В.Д. Феномен «душевной пустоты» в современной психиатрии // Неврологический вестник. 2024. Т. 56, № 3. С. 228–239. DOI: https://doi.org/10.17816/nb633794
Полный текст можно скачать тут: https://tttttt.me/mendpsy/303
#прл
#пограничное_расстройство_личности
#диссоциация
#клиника
E.D. Klonsky констатировал, что клиницистам трудно дать словесное описание «пустоты», эмпирических исследований данного феномена крайне мало, и пустота незначительно связана со скукой, но тесно сопряжена c чувством безнадёжности, одиночества и изолированности и является значимым предиктором депрессии и суицидальных мыслей, но не тревоги или попыток самоубийства.
Клинические наблюдения позволяют утверждать, что феномен душевной пустоты по сущностным характеристикам отличается от иных известных психопатологических симптомов — от чувства опустошённости, тоски, скуки, апатии.
«Душевная пустота» официально появилась в психиатрических классификациях лишь в 1980 г., когда в DSM-III-R был включён значимый для диагностики ПРЛ [пограничного расстройства личности] критерий «пустоты». Сегодня его именуют «седьмым критерием»...
Распространённость феномена «душевной пустоты» стремительно увеличивается, что, возможно, связано со значительным учащением диагностики ПРЛ. Так, по данным 20-летнего анализа уровня заболеваемости ПРЛ данное расстройство стало появляться в сотни раз чаще, чем ранее.
По мнению D. Elsner и соавт., именно феномен пустоты позволяет отличать ПРЛ от других психических расстройств, в частности от большого депрессивного расстройства [клинической депрессии].
В связи с этим следует признать значимым для постмодернистской реальности снижение толерантности по отношению к душевным страданиям, снижение порога «душевной чувствительности» и стремление избегать даже минимального эмоционального дискомфорта.
Пациенты с ПРЛ не способны сформировать последовательную самооценку. Вместо этого они принимают то, что можно было бы назвать
«постмодернистской» позицией в своей жизни, переключаясь от одного настоящего к другому и полностью отождествляясь со своим нынешним состоянием аффекта.Вместо подавления их средства защиты состоят во временном расщеплении самости, исключающем прошлое и будущее как измерения постоянства объекта, привязанности, обязательств, ответственности и вины.
Многие пациенты к определению «душевная пустота» добавляют характеристику «зияющая», и этот феномен приобретает особый смысл. Зиять — это значит быть раскрытым, показывать, обнаруживать глубину, провал. «Зияющая душевная пустота» переживается как неразделённое глубокое чувство, нуждающееся в сопереживании или «встряске».
Ch. Hadson и соавт. причисляют «пустоту» к многогранной, трансдиагностической конструкции, одинаковой для разных диагнозов психических расстройств, за исключением ПРЛ, при котором «пустота» в значительно большей степени связана с диссоциацией...
Авторы выделяют несколько характеристик пустоты: бесцельность, отсутствие связи, оцепенение, самоуничижение, отсутствие идентичности, отсутствие мотивации, безнадёжность, ангедония, физические страдания, диссоциация.
Таким образом, анализ феномена «душевной пустоты» показывает, что психопатологически его следует трактовать как деперсонализацию, а не как депрессию или тревогу.
Вероятнее всего, деперсонализация при ПРЛ связана с механизмами диссоциации, при которых главную роль играют сложные механизмы с участием эмоциональной дизрегуляции и дезинтеграция схемы тела.
Источник: Менделевич В.Д. Феномен «душевной пустоты» в современной психиатрии // Неврологический вестник. 2024. Т. 56, № 3. С. 228–239. DOI: https://doi.org/10.17816/nb633794
Полный текст можно скачать тут: https://tttttt.me/mendpsy/303
#прл
#пограничное_расстройство_личности
#диссоциация
#клиника
Telegram
Голос_психиатра
ФЕНОМЕН "ДУШЕВНОЙ ПУСТОТЫ" В СОВРЕМЕННОЙ ПСИХИАТРИИ
Неврологический вестник, 2024, №3, С. 228–239.
www.academia.edu/123935350/Феномен_душевной_пустоты_в_современной_психиатрии
Неврологический вестник, 2024, №3, С. 228–239.
www.academia.edu/123935350/Феномен_душевной_пустоты_в_современной_психиатрии
👍155
Один из ответов на этот непростой вопрос заключается в том, что у пациентов с антисоциальным расстройством личности наблюдается непропорционально высокий уровень диссоциативных симптомов.
Диссоциация – это процесс, при котором ослаблена (а в пределе и вовсе отсутствует), интеграция мыслей, чувств и поведения в сознание и память.
Ключевые симптомы диссоциации включают в себя амнезию, деперсонализацию и дереализацию (DSM-V, 2013).
Так, в турецком исследовании 579 лиц мужского пола с антисоциальным расстройством личности, ученные обнаружили у этих пациентов высокую частоту диссоциативных симптомов.
Причем в 50,4% случаев уровень диссоциации был патологическим.
Уровнями диссоциации, которые имеют клиническое значение считаются те, при которых изменения внезапны, интенсивны и продолжительны по времени, что могут привести к опасному или неадекватному поведению.
Во многих случаях, подобные диссоциативные состояния, возникают вне связи с каким-либо триггером и доставляют явные проблемы как самом индивидууму, так и окружающим его людям.
У пациентов могут присутствовать выраженные изменения в их субъективном опыте, однако это изменение носит приходящий характер и в большинстве случаев отсутствует актуально (при их обследовании).
Ситуация осложняется тем, что сами пациенты не могут дать об этом опыте адекватный самоотчет – по этой причине диссоциативные феномены сложно диагностировать при психиатрическом осмотре, особенно с учётом, что «здесь и сейчас» тестирование реальности адекватно и отсутствуют признаки психоза.
Вероятно, именно диссоциация ответственна за то, что пациенты оказываются неспособными сделать выводы и выстроить простейшую связь между своими действиями и последствиями своих действий, так как нарушается интеграция мыслей, чувств и поведения в сознание и память.
Это кстати и неплохо объясняет примитивность самооправданий антисоциальных личностей. Они зачастую, сами не до конца понимают зачем они так поступили и говорят хоть что-то, первое что пришло им в голову, лишь бы заполнить эту пустоту.
Психоанализ, начиная наверное с Шандора Ференци, рассматривал «диссоциацию» как результат, последствие ранний травматизации.
При диссоциации происходит исключение опыта, который непереносим психологически из восприятия и сознания.
Реальность уже вторично «вычеркиваются» благодаря дезинтеграции самого психического аппарата, который связывает человека с действительностью.
В приведенном выше исследовании было подтверждено, что лица соответствующие критериям антисоциального расстройства личности, были в большей степени подвержены воздействию ранних детских травм, чем участники контрольной группы (группы сравнения).
© Автономов Денис, 2024
Написано по мотивам:
https://link.springer.com/article/10.1007/s00127-007-0248-2
#диссоциация
#психопатия
#антисоциальное_расстройство_личности
#травма
Диссоциация – это процесс, при котором ослаблена (а в пределе и вовсе отсутствует), интеграция мыслей, чувств и поведения в сознание и память.
Ключевые симптомы диссоциации включают в себя амнезию, деперсонализацию и дереализацию (DSM-V, 2013).
Так, в турецком исследовании 579 лиц мужского пола с антисоциальным расстройством личности, ученные обнаружили у этих пациентов высокую частоту диссоциативных симптомов.
Причем в 50,4% случаев уровень диссоциации был патологическим.
Уровнями диссоциации, которые имеют клиническое значение считаются те, при которых изменения внезапны, интенсивны и продолжительны по времени, что могут привести к опасному или неадекватному поведению.
Во многих случаях, подобные диссоциативные состояния, возникают вне связи с каким-либо триггером и доставляют явные проблемы как самом индивидууму, так и окружающим его людям.
У пациентов могут присутствовать выраженные изменения в их субъективном опыте, однако это изменение носит приходящий характер и в большинстве случаев отсутствует актуально (при их обследовании).
Ситуация осложняется тем, что сами пациенты не могут дать об этом опыте адекватный самоотчет – по этой причине диссоциативные феномены сложно диагностировать при психиатрическом осмотре, особенно с учётом, что «здесь и сейчас» тестирование реальности адекватно и отсутствуют признаки психоза.
Вероятно, именно диссоциация ответственна за то, что пациенты оказываются неспособными сделать выводы и выстроить простейшую связь между своими действиями и последствиями своих действий, так как нарушается интеграция мыслей, чувств и поведения в сознание и память.
Это кстати и неплохо объясняет примитивность самооправданий антисоциальных личностей. Они зачастую, сами не до конца понимают зачем они так поступили и говорят хоть что-то, первое что пришло им в голову, лишь бы заполнить эту пустоту.
Психоанализ, начиная наверное с Шандора Ференци, рассматривал «диссоциацию» как результат, последствие ранний травматизации.
При диссоциации происходит исключение опыта, который непереносим психологически из восприятия и сознания.
Реальность уже вторично «вычеркиваются» благодаря дезинтеграции самого психического аппарата, который связывает человека с действительностью.
В приведенном выше исследовании было подтверждено, что лица соответствующие критериям антисоциального расстройства личности, были в большей степени подвержены воздействию ранних детских травм, чем участники контрольной группы (группы сравнения).
© Автономов Денис, 2024
Написано по мотивам:
https://link.springer.com/article/10.1007/s00127-007-0248-2
#диссоциация
#психопатия
#антисоциальное_расстройство_личности
#травма
SpringerLink
Childhood trauma history and dissociative experiences among Turkish men diagnosed with antisocial personality disorder
Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology - This study investigated the association between antisocial personality disorder (APD), childhood trauma history, and dissociative symptoms in a...
👍139
З. Фрейд в короткой статье «Утрата реальности при неврозе и психозе» (1924) указывал:
Патологический азартный игрок «раздул» эту область «мира фантазии» так широко, что она почти поглотила его [психическую] жизнь.
Азартный игрок – жертва диссоциации, которая происходит с человеком в результате погружения в игры на деньги.
Диссоциация предполагает не только ослабление восприятия действительности (как писал Апостол Павел в 1 послании к Коринфянам:
Один мир «действительности», «реальности» где господствует рациональность, где бесплатный сыр бывает только в мышеловке, где нужно работать, испытывать, как писал Фрейд, тяготы жизни и быть под властью требований – где необходимо платить по счетам и решать неприятные проблемы.
Другой мир – мир исполнения желаний, мир фантазии, мир игры, где есть халява, деньги сами падают с неба по твоему нажатию на кнопку, где тебе все и всегда рады, где ноль осуждения, где 100% понимания, где для тебя все бесплатно и вообще нет проблем.
Проблема только в том, что чтобы задержаться чуть дольше в этом сказочном мире фантазии, нужно в мире номер 1 вкалывать как проклятый на двух работах по 70 часов в неделю, врать, изворачиваться, присваивать чужие деньги, брать кредиты и вздрагивать от звонков коллекторов.
Лет 20 назад, один человек как-то сказал мне, что он осознал, что у него серьезные проблемы с азартными играми, только после того как он подумал, как было бы хорошо, если бы можно было бы просто жить в казино.
Чем лучше в мире фантазии номер 2, тем хуже в мире действительности номер 1.
P.S. Видеоверсия данного поста (2,5 минуты).
Смотрите и слушайте где удобнее:
YouTube https://youtube.com/shorts/m2vsD2P3agU?feature=share
TikTok https://vt.tiktok.com/ZS6vkV2sd/
Дзен https://dzen.ru/video/watch/679b1d919629cc2b4e68dde8?share_to=link
© Автономов Денис, 2025
#игра
#психоанализ
#зависимость
#диссоциация
#видео
«Резкое различие между неврозом и психозом ослабляется тем, что при неврозе нет недостатка в попытках заместить неприятную реальность более созвучной желаниям субъекта. Возможность этого обеспечивается существованием мира фантазии, области, которая оказывается отделенной от реального внешнего мира во время утверждения принципа реальности. И далее эта область остается свободной от требований, предъявляемых тяготами жизни».Патологический азартный игрок «раздул» эту область «мира фантазии» так широко, что она почти поглотила его [психическую] жизнь.
Азартный игрок – жертва диссоциации, которая происходит с человеком в результате погружения в игры на деньги.
Диссоциация предполагает не только ослабление восприятия действительности (как писал Апостол Павел в 1 послании к Коринфянам:
«Мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно» (1Кор. 13:12)), но и эффект пребывания в двух мирах.Один мир «действительности», «реальности» где господствует рациональность, где бесплатный сыр бывает только в мышеловке, где нужно работать, испытывать, как писал Фрейд, тяготы жизни и быть под властью требований – где необходимо платить по счетам и решать неприятные проблемы.
Другой мир – мир исполнения желаний, мир фантазии, мир игры, где есть халява, деньги сами падают с неба по твоему нажатию на кнопку, где тебе все и всегда рады, где ноль осуждения, где 100% понимания, где для тебя все бесплатно и вообще нет проблем.
Проблема только в том, что чтобы задержаться чуть дольше в этом сказочном мире фантазии, нужно в мире номер 1 вкалывать как проклятый на двух работах по 70 часов в неделю, врать, изворачиваться, присваивать чужие деньги, брать кредиты и вздрагивать от звонков коллекторов.
Лет 20 назад, один человек как-то сказал мне, что он осознал, что у него серьезные проблемы с азартными играми, только после того как он подумал, как было бы хорошо, если бы можно было бы просто жить в казино.
Чем лучше в мире фантазии номер 2, тем хуже в мире действительности номер 1.
P.S. Видеоверсия данного поста (2,5 минуты).
Смотрите и слушайте где удобнее:
YouTube https://youtube.com/shorts/m2vsD2P3agU?feature=share
TikTok https://vt.tiktok.com/ZS6vkV2sd/
Дзен https://dzen.ru/video/watch/679b1d919629cc2b4e68dde8?share_to=link
© Автономов Денис, 2025
#игра
#психоанализ
#зависимость
#диссоциация
#видео
YouTube
Главная проблема патологического игрока на деньги - это диссоциация между реальностью и фантазией
З. Фрейд в короткой статье «Утрата реальности при неврозе и психозе» (1924) указывал:«Резкое различие между неврозом и психозом ослабляется тем, что при невр...
👍81
Наша история очень и очень травматична, особенно история прошедшего века. Я думаю, мы все имеем дело с посттравматическим синдромом национального масштаба.
Одна из его составляющих – диссоциативное расщепление.
Это такая психологическая защита, избираемая психикой в непереносимых обстоятельствах, – отщепить страдание, капсулировать его, чтобы не чувствовать душевной боли, оставаться функциональным и за счет этого выжить...
Диссоциация сама по себе не есть плохо – это способ сохраниться, не сойти с ума, вполне функциональный механизм при условии, что он действует только на время.
Когда нужно собраться, выжить, спастись, «дойти до своих». И там уже дать волю слезам, гневу, страху – всему, что было «отморожено», засунуто в капсулу.
...Диссоциация из временной защитной меры становится частью культурной нормы, частью национального характера. Это огромная и очень болезненная тема, заслуживающая отдельного разговора.
Оно болит до сих пор, сказывается до сих пор, и не только ведь в той войне дело, много было всего еще и до, и после. Там такие объемы травматичного опыта, что заглянешь – и дна не видно. Но надо хотя бы пытаться.
Застарелая диссоциация даже в масштабах психики одного человека может иметь довольно плохие последствия, что уж говорить, если она становится частью коллективного бессознательного.
Не мы одни через это проходили. Свидетельства жертв холокоста стали собирать только в 70-х, до этого им тоже предписывалось молчать. Не под страхом тюрьмы, конечно, просто висело в воздухе.
Но спохватились, записали, собрали, еще застали в живых. Канадские «сироты Дюплесси» получили возможность говорить тоже лишь через десятилетия.
А сколько трагедий так и остались лишь скупыми строчками хроник, потому что голоса жертв и свидетелей не записал никто.
Есть сказочный сюжет у многих народов – про совершенное убийство, про то, как жертву закопали, всем солгали, но потом на холмике вырос тростник, из тростника пастушок срезал дудочку, и дудочка эта на весь свет рассказала, что случилось на самом деле.
Мне кажется, это самая точная метафора такого рода литературы, как «роман голосов».
Несмотря на то, что опыт страдания всеми силами пытаются похоронить, продолжают требовать заткнуться и забыть, «не порочить светлый образ», не «искажать картину», люди решаются – и говорят.
И каждый решившийся заговорить несёт послание другим: «Не молчи! Это твоя жизнь, твой опыт, твоя правда, никто не смеет ее закапывать и хоронить в тайне».
Текст Людмилы Петрановской (с сокращением).
#травма
#диссоциация
#история
Одна из его составляющих – диссоциативное расщепление.
Это такая психологическая защита, избираемая психикой в непереносимых обстоятельствах, – отщепить страдание, капсулировать его, чтобы не чувствовать душевной боли, оставаться функциональным и за счет этого выжить...
Диссоциация сама по себе не есть плохо – это способ сохраниться, не сойти с ума, вполне функциональный механизм при условии, что он действует только на время.
Когда нужно собраться, выжить, спастись, «дойти до своих». И там уже дать волю слезам, гневу, страху – всему, что было «отморожено», засунуто в капсулу.
...Диссоциация из временной защитной меры становится частью культурной нормы, частью национального характера. Это огромная и очень болезненная тема, заслуживающая отдельного разговора.
Оно болит до сих пор, сказывается до сих пор, и не только ведь в той войне дело, много было всего еще и до, и после. Там такие объемы травматичного опыта, что заглянешь – и дна не видно. Но надо хотя бы пытаться.
Застарелая диссоциация даже в масштабах психики одного человека может иметь довольно плохие последствия, что уж говорить, если она становится частью коллективного бессознательного.
Не мы одни через это проходили. Свидетельства жертв холокоста стали собирать только в 70-х, до этого им тоже предписывалось молчать. Не под страхом тюрьмы, конечно, просто висело в воздухе.
Но спохватились, записали, собрали, еще застали в живых. Канадские «сироты Дюплесси» получили возможность говорить тоже лишь через десятилетия.
А сколько трагедий так и остались лишь скупыми строчками хроник, потому что голоса жертв и свидетелей не записал никто.
Есть сказочный сюжет у многих народов – про совершенное убийство, про то, как жертву закопали, всем солгали, но потом на холмике вырос тростник, из тростника пастушок срезал дудочку, и дудочка эта на весь свет рассказала, что случилось на самом деле.
Мне кажется, это самая точная метафора такого рода литературы, как «роман голосов».
Несмотря на то, что опыт страдания всеми силами пытаются похоронить, продолжают требовать заткнуться и забыть, «не порочить светлый образ», не «искажать картину», люди решаются – и говорят.
И каждый решившийся заговорить несёт послание другим: «Не молчи! Это твоя жизнь, твой опыт, твоя правда, никто не смеет ее закапывать и хоронить в тайне».
Текст Людмилы Петрановской (с сокращением).
#травма
#диссоциация
#история
👍253