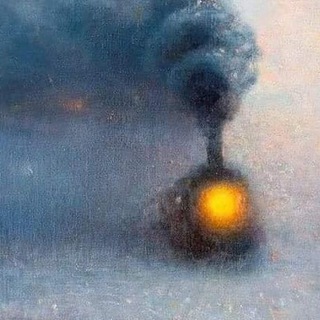Forwarded from Григорий Баженов
Канал имени Гоббса привел ссылку с результатами "исследования" в качестве доказательства опровержения старины Бранко Милановича. Бедный, бедный Миланович... Его многолетние исследования оказались простой манипуляцией данными... Все, что было необходимо - это взять и дезагрегировать 1% самых богатых, а также продемонстрировать разницу в абсолютных значениях. Как жаль, что сам Миланович об этом не подумал... Или подумал?
Открываем его книгу "Глобальное неравенство. Новый подход для эпохи глобализации", изданную Институтом Гайдара в 2017 году и переведенную Даниилом Шестаковым. Находим там первую главу, а там параграф "Абсолютный выигрыш в доходах в различных точках глобального распределения доходов" на странице 42. Листаем. Опа! На 43 странице график "Процент абсолютного выигрыша в реальном доходе на душу населения, полученный в зависимости от уровня дохода в глобальном распределении, 1988-2008 гг.". И он весьма напоминает тот, что предложен авторами исследования (см. картинку постом ниже). Листаем далее, видим, что Миланович отдельно объясняет, почему его выводы вот это все никак не опровергает. Ну а дальше идет врезка "ЭКСКУРС 1.2 Абсолютные и относительные меры неравенства доходов", где Миланович отдельно обговаривает, почему относительные показатели надежнее и лучше.
Аргументы Милановича:
Во-первых, относительные меры консервативны, поскольку они показывают неизменность неравенства в ситуациях, когда абсолютные меры показывают рост неравенства (когда все доходы увеличиваются на один и тот же процент) или его понижение (когда они все падают на один и тот же процент)...
Во-вторых, один из недостатков абсолютных мер заключается в том, что они практически всегда растут при любом увеличении среднего: когда доходы увеличиваются, абсолютная разница между богатыми, средним классом и бедными становится больше, даже если относительный разрыв остается неизменным. Представим, что распределение — это воздушный шарик. Когда шарик надувается, расстояние между любыми точками на поверхности шарика растет. При использовании абсолютных расстояний практически любое увеличение среднего (надувание шарика) может рассматриваться как увеличение неравенства...
В-третьих, неравенство и рост доходов являются двумя проявлениями одного и того же феномена. (Тут следует техническое рассуждение о том, что средний доход является первым моментом распределения доходов, а неравенство — вторым моментом распределения доходов (дисперсией). Рассуждение результируется так: логика относительности, которая применяется к росту, должна применяться и к неравенству).
Последний аргумент состоит в том, что относительный рост дохода коррелирует с ростом полезности, если мы полагаем, что индивидуальная функция полезности имеет логарифмическую форму в зависимости от дохода... Иными словами, для богатого каждый дополнительный доллар приносит меньшую полезность или кажется менее важным, чем для бедного (далее, Миланович отмечает, что если это предположение разумно, а оно разумно, то нужно рассматривать данные из кривой частот роста как изменения в полезности).
Как мы видим, Миланович все предусмотрел и отдельно обговорил. Но кому какое дело? Главное со слоновьим графиком повоевать. Если авторы "исследования" хотя бы оговаривают, что критикуют использование слоновьего графика в политических целях (потом, однако, сами переходят на эмоции, дезагрегируя 1%, но почему-то не дезагрегируя другие группы), то Канал имени Гоббса пишет напрямую про Милановича, который первую главу заканчивает так:
В этой книге я надеюсь отразить фундаментально неоднозначную природу глобализации. Читатель должен все время помнить, что глобализация одновременно и зло, и благо. В идеале, даже читая о каких-то последствиях глобализации, которые кажутся «хорошими», необходимо помнить о возможных «плохих» эффектах, которые могут сопровождать «хорошие» последствия, и наоборот. Именно наша способность осознавать и учитывать всё «хорошее» и «плохое» и придавать им субъективные веса в конечном счете определяет, как мы воспринимаем глобализацию.
Такой вот вечерний #badeconomics
Открываем его книгу "Глобальное неравенство. Новый подход для эпохи глобализации", изданную Институтом Гайдара в 2017 году и переведенную Даниилом Шестаковым. Находим там первую главу, а там параграф "Абсолютный выигрыш в доходах в различных точках глобального распределения доходов" на странице 42. Листаем. Опа! На 43 странице график "Процент абсолютного выигрыша в реальном доходе на душу населения, полученный в зависимости от уровня дохода в глобальном распределении, 1988-2008 гг.". И он весьма напоминает тот, что предложен авторами исследования (см. картинку постом ниже). Листаем далее, видим, что Миланович отдельно объясняет, почему его выводы вот это все никак не опровергает. Ну а дальше идет врезка "ЭКСКУРС 1.2 Абсолютные и относительные меры неравенства доходов", где Миланович отдельно обговаривает, почему относительные показатели надежнее и лучше.
Аргументы Милановича:
Во-первых, относительные меры консервативны, поскольку они показывают неизменность неравенства в ситуациях, когда абсолютные меры показывают рост неравенства (когда все доходы увеличиваются на один и тот же процент) или его понижение (когда они все падают на один и тот же процент)...
Во-вторых, один из недостатков абсолютных мер заключается в том, что они практически всегда растут при любом увеличении среднего: когда доходы увеличиваются, абсолютная разница между богатыми, средним классом и бедными становится больше, даже если относительный разрыв остается неизменным. Представим, что распределение — это воздушный шарик. Когда шарик надувается, расстояние между любыми точками на поверхности шарика растет. При использовании абсолютных расстояний практически любое увеличение среднего (надувание шарика) может рассматриваться как увеличение неравенства...
В-третьих, неравенство и рост доходов являются двумя проявлениями одного и того же феномена. (Тут следует техническое рассуждение о том, что средний доход является первым моментом распределения доходов, а неравенство — вторым моментом распределения доходов (дисперсией). Рассуждение результируется так: логика относительности, которая применяется к росту, должна применяться и к неравенству).
Последний аргумент состоит в том, что относительный рост дохода коррелирует с ростом полезности, если мы полагаем, что индивидуальная функция полезности имеет логарифмическую форму в зависимости от дохода... Иными словами, для богатого каждый дополнительный доллар приносит меньшую полезность или кажется менее важным, чем для бедного (далее, Миланович отмечает, что если это предположение разумно, а оно разумно, то нужно рассматривать данные из кривой частот роста как изменения в полезности).
Как мы видим, Миланович все предусмотрел и отдельно обговорил. Но кому какое дело? Главное со слоновьим графиком повоевать. Если авторы "исследования" хотя бы оговаривают, что критикуют использование слоновьего графика в политических целях (потом, однако, сами переходят на эмоции, дезагрегируя 1%, но почему-то не дезагрегируя другие группы), то Канал имени Гоббса пишет напрямую про Милановича, который первую главу заканчивает так:
В этой книге я надеюсь отразить фундаментально неоднозначную природу глобализации. Читатель должен все время помнить, что глобализация одновременно и зло, и благо. В идеале, даже читая о каких-то последствиях глобализации, которые кажутся «хорошими», необходимо помнить о возможных «плохих» эффектах, которые могут сопровождать «хорошие» последствия, и наоборот. Именно наша способность осознавать и учитывать всё «хорошее» и «плохое» и придавать им субъективные веса в конечном счете определяет, как мы воспринимаем глобализацию.
Такой вот вечерний #badeconomics
Telegram
Канал им. Гоббса
В марте этого года экономический антрополог и автор книги «The Divide» Джейсон Хикель опубликовал очень важные статистические исследования относительно роста неравенства в мире, которые в пух и прах развенчивают старый добрый неолиберальной миф о том, что…
Forwarded from Григорий Баженов
Тот самый график. Процент абсолютного выигрыша в реальном доходе на душу населения, полученный в зависимости от уровня дохода в глобальном распределении, 1988-2008 гг.
Несколько месяцев ничего не писал в канал: практиковал цифровой минимализм и дочитывал курс «Модели экономического роста» для МГУ, а потом проверял экзамены. Глубоко погрузился в книги по экономическому росту и уже понимаю, что если буду читать этот курс дальше, то с большими изменениями: в частности, с большим упором на вопросы автоматизации и изменения климата.
С декабря накопилось много такого, чем хочется с вами поделиться. Во-первых, на сайте ЭКОНС вышло два больших текста о новых исследованиях по монетарной экономике: декабрьская и январская «научные повестки». Во-вторых, в конце прошлого года вышло много новых книг по экономике, в том числе у нобелевских лауреатов Кругмана, Стиглица, Банерджи и Дюфло. Профессионалам будут интересны новые книги по динамической макроэкономике и руководство от МВФ по анализу суверенного долга. Также вернётся старая рубрика из вконтакта: поговорим о лучших книгах по экономической истории 2019 года. На неделе обо всём этом напишу более подробно.
С декабря накопилось много такого, чем хочется с вами поделиться. Во-первых, на сайте ЭКОНС вышло два больших текста о новых исследованиях по монетарной экономике: декабрьская и январская «научные повестки». Во-вторых, в конце прошлого года вышло много новых книг по экономике, в том числе у нобелевских лауреатов Кругмана, Стиглица, Банерджи и Дюфло. Профессионалам будут интересны новые книги по динамической макроэкономике и руководство от МВФ по анализу суверенного долга. Также вернётся старая рубрика из вконтакта: поговорим о лучших книгах по экономической истории 2019 года. На неделе обо всём этом напишу более подробно.
Декабрьская научная повестка получилась теоретической: во всех трёх статьях, о которых я рассказывал, интереснее не новые данные, а новые идеи (но идеи возникают, разумеется, чтобы объяснить данные). Ауэрбах, Городниченко и Мёрфи объясняют высокий мультипликатор госрасходов и низкую волатильность отработанных часов в данных США моделью предельных издержек, которыми можно пренебречь (negligible marginal costs). Представим себе, что фирма нанимает сотрудника на восьмичасовой рабочий день: если реальной работы для сотрудника только на пять часов, фирме по-прежнему придется заплатить сотруднику за все восемь. Но вполне возможно, что самому сотруднику все равно, работать ли эти лишние три часа или нет, раз он уже вынужден находиться на рабочем месте. К тому же некоторые сотрудники могут ценить тот факт, что их работа нужна, и предпочесть работу скуке. Модель Ауэрбаха-Городниченко-Мёрфи в твиттере похвалил известный скептик в области макротеории, колумнист Bloomberg Ноа Смит: это как если бы вегетарианец похвалил мясной ресторан.
Линде и Трабандт объясняют исчезнувшую инфляцию (ослабление связи между инфляцией и безработицей в последние несколько десятков лет) моделью со стратегической комплементарностью в назначении цен. Фирмы не просто увеличивают цены в ответ на рост предельных издержек. Предположим, что фирма понижает цену, а конкуренты этого не делают, – такая фирма наверняка захватит большую долю рынка? Все сложнее: когда фирма понижает цену, она может продать больше товара, у потребителей его тоже станет больше и интерес к нему ослабеет. Из-за этого у фирмы становится меньше возможностей ставить наценку на свой продукт. Поэтому фирмы ждут, когда цены понизятся во всех секторах экономики. Модель Линде и Трабандта - лишь одно из возможных объяснений исчезнувшей инфляции: в другой статье приведено ещё семь разных объяснений.
Последняя статья выпуска - про то, как новые монетаристы объясняют криптовалюты. О теориях новых монетаристов на русском почти никто не пишет (статья Сергея Моисеева в "Вопросах экономики" - приятное исключение). Между тем, именно их модели лучше всего приспособлены для анализа взлёта и падения новых валют.
Линде и Трабандт объясняют исчезнувшую инфляцию (ослабление связи между инфляцией и безработицей в последние несколько десятков лет) моделью со стратегической комплементарностью в назначении цен. Фирмы не просто увеличивают цены в ответ на рост предельных издержек. Предположим, что фирма понижает цену, а конкуренты этого не делают, – такая фирма наверняка захватит большую долю рынка? Все сложнее: когда фирма понижает цену, она может продать больше товара, у потребителей его тоже станет больше и интерес к нему ослабеет. Из-за этого у фирмы становится меньше возможностей ставить наценку на свой продукт. Поэтому фирмы ждут, когда цены понизятся во всех секторах экономики. Модель Линде и Трабандта - лишь одно из возможных объяснений исчезнувшей инфляции: в другой статье приведено ещё семь разных объяснений.
Последняя статья выпуска - про то, как новые монетаристы объясняют криптовалюты. О теориях новых монетаристов на русском почти никто не пишет (статья Сергея Моисеева в "Вопросах экономики" - приятное исключение). Между тем, именно их модели лучше всего приспособлены для анализа взлёта и падения новых валют.
econs.online
Как примирить модели с реальностью, точнее предсказать инфляцию и заглянуть в будущее криптовалют — ECONS.ONLINE
Почему экономические модели ФРС и ЕЦБ стали хуже предсказывать инфляцию и как «криптовалютизация» экономики может дисциплинировать центробанки – самые важные новые исследования в нашей рубрике «Научная повестка».
Forwarded from ECONS
На сайте IKEA за 299 рублей продаются тапочки, табуретка, шторы для ванной, домик для кота; другую группу товаров можно купить за 999 рублей или за 1999 рублей, и т.д. Такая кластеризация цен есть у многих крупных компаний, и когда продавец повышает цену - он повышает ее намного, прыжком до следующей ценовой точки.
Подобные «скачки товаров», когда цены группируются вокруг определенных точек, напоминают учёным поведение элементарных частиц, поэтому такое ценообразование они назвали квантовым. Квантовые цены «зашумляют» показатель инфляции, поскольку их изменение либо нулевое, либо с очень большим прыжком.
О том, как влияют на денежно-кредитную политику квантовые цены, как она учитывает изменения глобальных производственных цепочек и в чем влияет на долгосрочную производительность в экономике - в обзоре новых научных исследований от Даниила Шестакова @growthecon
https://econs.online/articles/nauchnaya-povestka/pryzhki-tovarov-inflyatsiya-v-proizvodstvennykh-tsepochkah/
Подобные «скачки товаров», когда цены группируются вокруг определенных точек, напоминают учёным поведение элементарных частиц, поэтому такое ценообразование они назвали квантовым. Квантовые цены «зашумляют» показатель инфляции, поскольку их изменение либо нулевое, либо с очень большим прыжком.
О том, как влияют на денежно-кредитную политику квантовые цены, как она учитывает изменения глобальных производственных цепочек и в чем влияет на долгосрочную производительность в экономике - в обзоре новых научных исследований от Даниила Шестакова @growthecon
https://econs.online/articles/nauchnaya-povestka/pryzhki-tovarov-inflyatsiya-v-proizvodstvennykh-tsepochkah/
econs.online
Прыжки товаров, инфляция в производственных цепочках и долгосрочные эффекты монетарной политики — ECONS.ONLINE
Почему производители повышают цены скачкообразно, как центробанкам контролировать инфляцию в эпоху глобализации и чем опасна сдерживающая политика в долгосрочной перспективе – самое важное в свежих исследованиях.
Январская научная повестка получилась очень прикладной, буквально в жанре "что делать центробанкиру". Во-первых, написал про статью Апарисио и Ригобона про квантовые цены, о которой не так давно писал The Economist. Квантовыми ценами авторы назвали обнаруженный ими в данных феномен, когда фирмы группируют цены на тысячи товаров в нескольких дюжинах ценовых точек (299 рублей, 999 рублей, 1999 рублей), и товары при повышении цены просто прыгают на следующую ценовую точку вверх. Новые товары тоже вводятся в какую-то точку из уже существующих. Таким образом, скачки цен оказываются зашумленным показателем инфляции, для оценки которой нужна большая корзина товаров. Объяснить такое поведение фирм может поведенческая модель принятия решений покупателями.
Во-вторых, рассказываю про статью Шан-Цзинь Вэй (рассчитываю пообщаться с ним лично в мае) об оптимальной денежно-кредитной политике в мире глобальных производственных цепочек. Оказывается, чем сильнее страна вовлечена в глобальное разделение труда, тем больше центробанку следует ориентироваться на индекс цен производителей, а не только на индекс потребительских цен.
Но настоящий хит января - статья Оскара Жорда, Алана Тейлора и Санжая Сингха о долгосрочных эффектах денежно-кредитной политики. Многие из нас помнят из университетских лекций, что денежно-кредитная политика не влияет на долгосрочный выпуск, который определяется совокупным предложением, но иногда упоминался эффект гистерезиса. Жорда с соавторами построили новую базу длинных макроэкономических рядов и с помощью оригинальных инструментальных переменных показали: эффект гистерезиса есть, и работает он совсем не так, как вы могли бы подумать. Долгосрочные эффекты денежно-кредитной политики - одна из самых интересных тем в монетарной экономике последних пяти лет, исследователи активно пытаются соединить новокейнсианскую модель с моделями из теории экономического роста (обычно с эндогенным ростом в стиле Пола Ромера). С теоретической точки зрения в статье, к сожалению, всё немного печально, но эмпирика выглядит настолько убедительно, что игнорировать её невозможно. Думаю, что лет через десять анализ долгосрочных издержек от денежно-кредитной политики станет стандартом в прикладных моделях центробанков.
Во-вторых, рассказываю про статью Шан-Цзинь Вэй (рассчитываю пообщаться с ним лично в мае) об оптимальной денежно-кредитной политике в мире глобальных производственных цепочек. Оказывается, чем сильнее страна вовлечена в глобальное разделение труда, тем больше центробанку следует ориентироваться на индекс цен производителей, а не только на индекс потребительских цен.
Но настоящий хит января - статья Оскара Жорда, Алана Тейлора и Санжая Сингха о долгосрочных эффектах денежно-кредитной политики. Многие из нас помнят из университетских лекций, что денежно-кредитная политика не влияет на долгосрочный выпуск, который определяется совокупным предложением, но иногда упоминался эффект гистерезиса. Жорда с соавторами построили новую базу длинных макроэкономических рядов и с помощью оригинальных инструментальных переменных показали: эффект гистерезиса есть, и работает он совсем не так, как вы могли бы подумать. Долгосрочные эффекты денежно-кредитной политики - одна из самых интересных тем в монетарной экономике последних пяти лет, исследователи активно пытаются соединить новокейнсианскую модель с моделями из теории экономического роста (обычно с эндогенным ростом в стиле Пола Ромера). С теоретической точки зрения в статье, к сожалению, всё немного печально, но эмпирика выглядит настолько убедительно, что игнорировать её невозможно. Думаю, что лет через десять анализ долгосрочных издержек от денежно-кредитной политики станет стандартом в прикладных моделях центробанков.
econs.online
Прыжки товаров, инфляция в производственных цепочках и долгосрочные эффекты монетарной политики — ECONS.ONLINE
Почему производители повышают цены скачкообразно, как центробанкам контролировать инфляцию в эпоху глобализации и чем опасна сдерживающая политика в долгосрочной перспективе – самое важное в свежих исследованиях.
Социал-демократия вместо демократического социализма
Профессор MIT и один из самых цитируемых современных экономистов Дарон Асемоглу написал колонку о различиях социал-демократии и демократического социализма. Растущие шансы Берни Сандерса стать кандидатом в президенты от Демократической партии привлекают внимание к ядру его сторонников из Democratic Socialists of America (в этой организации состоит и Александрия Окасио-Кортез).
С точки зрения Асемоглу демократический социализм – идеология, которая рассматривает рыночную экономику как фундаментально нечестную, несправедливую и неисправимую, а решение видит в уничтожении частной собственности на средства производства. Но такое уничтожение не может быть достигнуто демократическими методами, что Асемоглу показал в своей новой книге «Узкий коридор» на примере множества латиноамериканских стран.
В качестве альтернативы демократическому социализму Асемоглу видит социал-демократию, которая пытается исправить недостатки рыночной экономики, снизить неравенство, и повысить уровень жизни самых бедных. Социал-демократия при этом регулирует рыночную экономику, а не замещает её. Успехи социал-демократии Асемоглу иллюстрирует историей Социал-демократической партии Швеции. СДПШ и её лидер Яльмар Брантинг ориентировались не только на рабочих, но и на средний класс, а средством достижения общественного согласия считали коллективные договора о зарплате. Профсоюзы и бизнес договаривались о зарплатах, а государство инвестировало в образование и навыки работников.
Инвестиции в образование приводили к сжатию зарплат: если у многих людей есть необходимые для работы навыки, то разрыв в зарплатах между теми, у кого навыки есть, и теми, у кого их нет, не может быть большим (иными словами, Швеция выигрывала в гонке между образованием и технологиями). Кроме того, когда зарплаты установлены на уровне отрасли, любое усовершенствование технологического процесса увеличивает прибыль фирмы, что стимулировало рост производительности. Согласие между бизнесом и рабочими было разрушено воинственными профсоюзами в 1960-е годы, и до 1990-х годов демократический социализм подрывал производительность шведской экономики. К сожалению для США, шансы Элизабет Уоррен, кандидатки от социал-демократии, сегодня выглядят призрачными.
Профессор MIT и один из самых цитируемых современных экономистов Дарон Асемоглу написал колонку о различиях социал-демократии и демократического социализма. Растущие шансы Берни Сандерса стать кандидатом в президенты от Демократической партии привлекают внимание к ядру его сторонников из Democratic Socialists of America (в этой организации состоит и Александрия Окасио-Кортез).
С точки зрения Асемоглу демократический социализм – идеология, которая рассматривает рыночную экономику как фундаментально нечестную, несправедливую и неисправимую, а решение видит в уничтожении частной собственности на средства производства. Но такое уничтожение не может быть достигнуто демократическими методами, что Асемоглу показал в своей новой книге «Узкий коридор» на примере множества латиноамериканских стран.
В качестве альтернативы демократическому социализму Асемоглу видит социал-демократию, которая пытается исправить недостатки рыночной экономики, снизить неравенство, и повысить уровень жизни самых бедных. Социал-демократия при этом регулирует рыночную экономику, а не замещает её. Успехи социал-демократии Асемоглу иллюстрирует историей Социал-демократической партии Швеции. СДПШ и её лидер Яльмар Брантинг ориентировались не только на рабочих, но и на средний класс, а средством достижения общественного согласия считали коллективные договора о зарплате. Профсоюзы и бизнес договаривались о зарплатах, а государство инвестировало в образование и навыки работников.
Инвестиции в образование приводили к сжатию зарплат: если у многих людей есть необходимые для работы навыки, то разрыв в зарплатах между теми, у кого навыки есть, и теми, у кого их нет, не может быть большим (иными словами, Швеция выигрывала в гонке между образованием и технологиями). Кроме того, когда зарплаты установлены на уровне отрасли, любое усовершенствование технологического процесса увеличивает прибыль фирмы, что стимулировало рост производительности. Согласие между бизнесом и рабочими было разрушено воинственными профсоюзами в 1960-е годы, и до 1990-х годов демократический социализм подрывал производительность шведской экономики. К сожалению для США, шансы Элизабет Уоррен, кандидатки от социал-демократии, сегодня выглядят призрачными.
Project Syndicate
Social Democracy Beats Democratic Socialism | by Daron Acemoglu - Project Syndicate
Daron Acemoglu thinks the differences between the two progressive frameworks are more important than their similarities.
Загрязнение воздуха ухудшает когнитивные способности
У изменения климата есть ещё одна неприятная сторона: сопутствующий ему рост загрязнения воздуха. Врачи знают, что микрочастицы PM2.5 в воздухе вызывают рак лёгких и сердечно-сосудистые заболевания. Хуан Паласиос из MIT совместно с коллегами из Маастрихтского университета обнаружил, что грязный воздух влияет на когнитивные способности. Экономисты изучали шахматные партии одних и тех же игроков в разных городах и сравнивали ходы шахматистов с ходами компьютерной программы. Рост концентрации микрочастиц на 10 мкг/м3 в воздухе города, где игралась шахматная партия, увеличивает вероятность ошибочного хода шахматиста на 26,3%. Вероятность растёт, если ход нужно делать в условиях цейтнота. На сайте AEA можно посмотреть короткое интервью Паласиоса о его исследовании: https://www.aeaweb.org/conference/videos/2020/juan-palacios
У изменения климата есть ещё одна неприятная сторона: сопутствующий ему рост загрязнения воздуха. Врачи знают, что микрочастицы PM2.5 в воздухе вызывают рак лёгких и сердечно-сосудистые заболевания. Хуан Паласиос из MIT совместно с коллегами из Маастрихтского университета обнаружил, что грязный воздух влияет на когнитивные способности. Экономисты изучали шахматные партии одних и тех же игроков в разных городах и сравнивали ходы шахматистов с ходами компьютерной программы. Рост концентрации микрочастиц на 10 мкг/м3 в воздухе города, где игралась шахматная партия, увеличивает вероятность ошибочного хода шахматиста на 26,3%. Вероятность растёт, если ход нужно делать в условиях цейтнота. На сайте AEA можно посмотреть короткое интервью Паласиоса о его исследовании: https://www.aeaweb.org/conference/videos/2020/juan-palacios
www.aeaweb.org
Juan Palacios on climate and cognition
How does indoor air quality affect cognitive performance?
Forwarded from FRAT - Financial random academic thoughts
Эволюция Центральных банков после 2009 года.
Мировой финансовый кризис поменял и макроэкономику в целом, и действия Центральных банков. Как минимум, финансовая стабильность стала важной частью их мандата.
Коллеги посмотрели, что происходило в 14 ЦБ развитых стран в 2007-2018. Конечно, изменений было много, но основные детали выглядели так:
1) Таргетирование инфляции стало более чётко выраженным. Например, ФРС в 2012 объявил свои 2% как цель, а другие банки удалили интервалы вокруг цели. При этом достижение таргета формулируется в "среднесрочном" периоде, а не каждый год или тем более месяц.
2) Финансовая стабильность становится отдельной частью мандата ЦБ.
3) Forward guidance: ЦБ часто старались говорить про свои будущие действия по ставкам и другим возможностям монетарной политики.
4) Набор возможных инструментов тоже расширился. И ломбардные списки стали шире, и сильно увеличились активы ЦБ - с 16% в 2007 до 38% в 2018.
Главный вывод: ЦБ очень сильно изменились за десять лет. Большинство из них придерживаются низких целей по инфляции (около 2%), и внимательно следят за финансовой стабильностью - в терминах и банковского сектора, и других крупных участников рынка (пенсионные фонды и т.п.).
Мировой финансовый кризис поменял и макроэкономику в целом, и действия Центральных банков. Как минимум, финансовая стабильность стала важной частью их мандата.
Коллеги посмотрели, что происходило в 14 ЦБ развитых стран в 2007-2018. Конечно, изменений было много, но основные детали выглядели так:
1) Таргетирование инфляции стало более чётко выраженным. Например, ФРС в 2012 объявил свои 2% как цель, а другие банки удалили интервалы вокруг цели. При этом достижение таргета формулируется в "среднесрочном" периоде, а не каждый год или тем более месяц.
2) Финансовая стабильность становится отдельной частью мандата ЦБ.
3) Forward guidance: ЦБ часто старались говорить про свои будущие действия по ставкам и другим возможностям монетарной политики.
4) Набор возможных инструментов тоже расширился. И ломбардные списки стали шире, и сильно увеличились активы ЦБ - с 16% в 2007 до 38% в 2018.
Главный вывод: ЦБ очень сильно изменились за десять лет. Большинство из них придерживаются низких целей по инфляции (около 2%), и внимательно следят за финансовой стабильностью - в терминах и банковского сектора, и других крупных участников рынка (пенсионные фонды и т.п.).
CEPR
The evolution of monetary policy frameworks in the post-crisis environment
Monetary policy frameworks have evolved since the global crisis. The column investigates the changes for 14 advanced economy central banks. Banks are defining lower, more narrow inflation targets. Transparency and commitment have been enhanced, and the monetary…
Инфографика от The Economist, количество сотрудников в центробанках мира согласно Central Banking Directory 2020. The Economist ругает ЕЦБ и ФРС, пишет, что сотрудников в них слишком много.
Россия на график не попала, потому что последняя запись для России в директории за 2018 год: тогда в Банке России работало 52 600 человек. Это больше, чем во всей Еврозоне (национальные центральные банки внутри Евросистемы и ЕЦБ вместе взятые). Людей в Еврозоне при этом живёт в два раза больше, чем в России. России есть куда расти: в Народном Банке Китая работает 125 000 человек.
Россия на график не попала, потому что последняя запись для России в директории за 2018 год: тогда в Банке России работало 52 600 человек. Это больше, чем во всей Еврозоне (национальные центральные банки внутри Евросистемы и ЕЦБ вместе взятые). Людей в Еврозоне при этом живёт в два раза больше, чем в России. России есть куда расти: в Народном Банке Китая работает 125 000 человек.
Central Banking
Central Banking Directory - Central Banking
Central Banking Directory Central Banking Directory The Directory is the only single source of detailed contact information for more than 4,500 senior central bankers and their institution.
Forwarded from FRAT - Financial random academic thoughts
Рынок акций и вождение?!
Бывают исследования, в которые просто не хочется верить, и механизм в которых непонятен.
Одно описал Даниил Шестаков (https://tttttt.me/growthecon/372). Прямо не хочу верить в связь грязного воздуха и качества ходов, очень хочется докопаться до "истинной причины". Может, до грязного города дольше добираться, и поэтому шахматисты сильнее устают? Или там часовой пояс неудачный? Не знаю.
А вот другой пример. Коллеги утверждают, что движение рынка акций оказывает мгновенное влияние на способности водителей машин. При снижении доходности растёт количество фатальных инцидентов на дороге! Причем эффект довольно большой по размеру.
Я не верю, мне прямо очень сильно кажется, что дело в другом. Например, в ухудшении экономической обстановки, это логично может привести к нервному состоянию водителей и снижению рынков. Третий фактор ну прямо должен играть роль.
Выводов два:
1) Смотрите "Джентльменов", не смотрите "Джокера", не снижайте радость от жизни;
2) Не обращайте внимание на краткосрочные колебания рынков, будьте долгосрочными инвесторами.
Бывают исследования, в которые просто не хочется верить, и механизм в которых непонятен.
Одно описал Даниил Шестаков (https://tttttt.me/growthecon/372). Прямо не хочу верить в связь грязного воздуха и качества ходов, очень хочется докопаться до "истинной причины". Может, до грязного города дольше добираться, и поэтому шахматисты сильнее устают? Или там часовой пояс неудачный? Не знаю.
А вот другой пример. Коллеги утверждают, что движение рынка акций оказывает мгновенное влияние на способности водителей машин. При снижении доходности растёт количество фатальных инцидентов на дороге! Причем эффект довольно большой по размеру.
Я не верю, мне прямо очень сильно кажется, что дело в другом. Например, в ухудшении экономической обстановки, это логично может привести к нервному состоянию водителей и снижению рынков. Третий фактор ну прямо должен играть роль.
Выводов два:
1) Смотрите "Джентльменов", не смотрите "Джокера", не снижайте радость от жизни;
2) Не обращайте внимание на краткосрочные колебания рынков, будьте долгосрочными инвесторами.
Telegram
Econ. Growth Channel
Загрязнение воздуха ухудшает когнитивные способности
У изменения климата есть ещё одна неприятная сторона: сопутствующий ему рост загрязнения воздуха. Врачи знают, что микрочастицы PM2.5 в воздухе вызывают рак лёгких и сердечно-сосудистые заболевания. Хуан…
У изменения климата есть ещё одна неприятная сторона: сопутствующий ему рост загрязнения воздуха. Врачи знают, что микрочастицы PM2.5 в воздухе вызывают рак лёгких и сердечно-сосудистые заболевания. Хуан…
Forwarded from ECONS
Резкий рост неопределенности - время поговорить об экономических эффектах неопределенности и о том, что она означает. Даниил Шестаков @growthecon с подборкой новых научных статей: каким образом неопределенность может поддерживать экономическую активность (бывает и такое); как неопределенность в сообщениях центробанков влияет на ожидания рынка; а также - как рассчитать цель по инфляции и почему она может оказаться заниженной.
https://econs.online/articles/opinions/ekonomicheskiy-effekt-neopredelennosti/
https://econs.online/articles/opinions/ekonomicheskiy-effekt-neopredelennosti/
econs.online
Экономический эффект неопределенности — ECONS.ONLINE
Каким образом неопределенность поддерживает экономическую активность, как ее упоминание в коммуникациях центробанков влияет на долгосрочные ставки и почему цели по инфляции могут быть занижены – самое важное в свежих научных исследованиях.
Forwarded from ECONS
Чтение на выходные: новая «Научная повестка» с обзором самых важных публикаций от Даниила Шестакова @growthecon
• Как эффект антикризисного фискального стимулирования можно усилить при помощи консервативной монетарной политики – как целенаправленной, так и вынужденной, обусловленной низким уровнем процентных ставок в развитых экономиках;
• Чем дополнить данные по безработице, которые зачастую не точно описывают ситуацию на рынке труда;
• Почему у женщин инфляционные ожидания обычно выше, чем у мужчин.
https://econs.online/articles/opinions/usilennoe-stimulirovanie-ekonomiki-novaya-mera-bez/
• Как эффект антикризисного фискального стимулирования можно усилить при помощи консервативной монетарной политики – как целенаправленной, так и вынужденной, обусловленной низким уровнем процентных ставок в развитых экономиках;
• Чем дополнить данные по безработице, которые зачастую не точно описывают ситуацию на рынке труда;
• Почему у женщин инфляционные ожидания обычно выше, чем у мужчин.
https://econs.online/articles/opinions/usilennoe-stimulirovanie-ekonomiki-novaya-mera-bez/
econs.online
Усиленное стимулирование экономики, новая мера безработицы и гендерный разрыв инфляционных ожиданий — ECONS.ONLINE
Как консервативная монетарная политика может помочь при фискальном стимулировании, в чем проблема безработицы как макроэкономического показателя и почему центробанкам следует уделять больше внимания женщинам: главное в свежих исследованиях.
Forwarded from ECONS
Как рынок воспринимает неожиданные решения по ставке, почему инфляция стала менее чувствительной к колебаниям делового цикла и может ли неопределенность быть полезным инструментом центрального банка: новая «Научная повестка» с Даниилом Шестаковым @growthecon об исследованиях о современной денежно-кредитной политике.
https://econs.online/articles/opinions/syurprizy-monetarnoy-politiki-poteryannaya-inflyatsiya/
https://econs.online/articles/opinions/syurprizy-monetarnoy-politiki-poteryannaya-inflyatsiya/
econs.online
Сюрпризы монетарной политики, потерянная инфляция и «темное искусство» центробанка — ECONS.ONLINE
Как рынок воспринимает неожиданные решения по ставке, почему инфляция стала менее чувствительной к колебаниям делового цикла и может ли неопределенность быть полезным инструментом центрального банка – главное в новых научных исследованиях.
В новом выпуске «Научной повестки» много интересного: и как смотреть на сюрпризы денежно-кредитной политики – как на шоки или как на реакцию на новости, и про «тёмные искусства» неопределённости. Но мне методологически больше всего нравится статья Дель Негро, к рассказу о которой было больше всего редакторских правок.
Работа Дель Негро с соавторами по своей структуре похожа на недавнюю статью Ауэрбаха, Городниченко и Мёрфи о фискальных мультипликаторах, о которой я писал ранее. На первом этапе выявляется набор стилизованных фактов с помощью чисто макроэконометрических методов – векторных авторегрессий, или, в случае Городниченко, двухшаговой регрессии с инструментальными переменными. Такие стилизованные факты Эми Накамура и Ион Стейнссон (Беркли) называют портируемыми статистиками: это могут быть как наблюдения о поведении переменных и их взаимосвязи, так и отклики переменных на шоки, которым приписывается причинно-следственная интерпретация. На втором шаге портируемые статистики используются для DSGE-модели, которая объясняет стилизованные факты с помощью содержательного экономического механизма.
Такой подход несколько отличается от того, что было популярно в центробанках и академии в последние два десятилетия: макроэконометрические отклики либо механически использовались для подгонки моделей (DSGE-VAR), либо портируемые статистики просто подставлялись в качестве априорных значений для больших моделей, которые затем оценивались по Байесу.
С распространением этого подхода может измениться роль DSGE-моделей в центробанках: если раньше большая модель была ядром для построения сценарных прогнозов, то в будущем DSGE может стать лишь одним из множества инструментов: у центробанка будет отдельная DSGE для рынка труда, отдельная для фискального импульса и так далее. Отчасти такой подход неизбежен, потому что экономистам всё труднее понимать внутренние механизмы работы очень больших моделей, которые пытаются детально учесть множество секторов (различные категории рынка труда, различные типы активов домохозяйств, банки, рынок жилья и так далее), каждый из которых должен удовлетворять критике Лукаса, а шоки – иметь содержательную интерпретацию внутри модели.
Работа Дель Негро с соавторами по своей структуре похожа на недавнюю статью Ауэрбаха, Городниченко и Мёрфи о фискальных мультипликаторах, о которой я писал ранее. На первом этапе выявляется набор стилизованных фактов с помощью чисто макроэконометрических методов – векторных авторегрессий, или, в случае Городниченко, двухшаговой регрессии с инструментальными переменными. Такие стилизованные факты Эми Накамура и Ион Стейнссон (Беркли) называют портируемыми статистиками: это могут быть как наблюдения о поведении переменных и их взаимосвязи, так и отклики переменных на шоки, которым приписывается причинно-следственная интерпретация. На втором шаге портируемые статистики используются для DSGE-модели, которая объясняет стилизованные факты с помощью содержательного экономического механизма.
Такой подход несколько отличается от того, что было популярно в центробанках и академии в последние два десятилетия: макроэконометрические отклики либо механически использовались для подгонки моделей (DSGE-VAR), либо портируемые статистики просто подставлялись в качестве априорных значений для больших моделей, которые затем оценивались по Байесу.
С распространением этого подхода может измениться роль DSGE-моделей в центробанках: если раньше большая модель была ядром для построения сценарных прогнозов, то в будущем DSGE может стать лишь одним из множества инструментов: у центробанка будет отдельная DSGE для рынка труда, отдельная для фискального импульса и так далее. Отчасти такой подход неизбежен, потому что экономистам всё труднее понимать внутренние механизмы работы очень больших моделей, которые пытаются детально учесть множество секторов (различные категории рынка труда, различные типы активов домохозяйств, банки, рынок жилья и так далее), каждый из которых должен удовлетворять критике Лукаса, а шоки – иметь содержательную интерпретацию внутри модели.
econs.online
Сюрпризы монетарной политики, потерянная инфляция и «темное искусство» центробанка — ECONS.ONLINE
Как рынок воспринимает неожиданные решения по ставке, почему инфляция стала менее чувствительной к колебаниям делового цикла и может ли неопределенность быть полезным инструментом центрального банка – главное в новых научных исследованиях.
Как прогнозировать нобелевскую премию по экономике?
Каждый год в первую неделю октября экономисты гадают, кто получит нобелевскую премию по экономике. Давайте я научу вас, как гадать.
Шаг 1. Берете списки кандидатов, которые обсуждались прошлые пять лет. Вычеркиваете из списков тех, кто получил, и тех, кто не дожил. Например, Пол Ромер, нобелевскую премию которому экономисты предсказывали с начала 2000-х годов, получил её в 2018 году «за включение технологических инноваций в долгосрочный макроэкономический анализ». А Альберто Алезина, который безусловно заслуживал нобелевскую премию за исследования политической экономики (шутники с задних рядов уже кричат «за открытие expansionary austerity») - не дожил.
Шаг 2. Вычеркиваете из списков тех, кто должен был получить нобелевскую премию вместе с кем-то, кто получил. Например, Филип Агийон заслужил премию за модели эндогенного экономического роста, а Мартин Вейцман - за экономику климата. Но мы не дождались отдельного «климатического нобеля» и отдельного «эндогенного нобеля»: комитет в 2018 году решил дать общую премию Уильяму Нордхаусу и Полу Ромеру.
Тем не менее, если жить долго, можно дождаться премии. После премии Полу Кругману в 2008 году сильно понизились шансы получить премию тем, кто вместе с Кругманом создавал новую теорию торговли. Но прошло 12 лет - и долгожители Элханан Хелпман (74) и Авинаш Диксит (76) снова появляются в списках возможных кандидатов. Экстремальный пример: Лукас получил премию в 1995 году, Прескотт в 2004, а Сарджент - в 2011, но, со всеми оговорками, это должна была быть одна премия. Так что у 64-летнего Агийона есть шанс дождаться своей нобелевской премии за экономический рост (вместе с Чадом Джонсом и Дароном Асемоглу?). Есть ли они у 76-летнего Роберта Барро? Долгих лет жизни, конечно.
Многие из потенциальных лауреатов сделали открытия в разных областях, поэтому хотя по факту им дадут «за всё», номинально дать могут за разное и в разных комбинациях. Дарон Асемоглу может получить премию «за рост», «за институты» или (маловероятно, но всё же) «за экономику труда». Джошуа Ангрист может получить премию «за экономику труда» или «за эконометрику». Андрей Шлейфер может получить премию «за поведенческую экономику», «за финансы», «за экономику и право» (но самого вероятного поведенческого нобеля Шлейферу и Рабину, наверное, придётся ещё подождать).
Шаг 3. Нобелевский комитет любит разнообразие. Маловероятно, что в соседние года будут давать премию в одной и той же области экономики. В прошлом году дали премию за экономику развития, а в позапрошлом - за экономический рост? В этом году повышаются шансы премии теоретикам, эконометристам и финансистам. Если всё же дадут макроэкономистам - то не за рост, а за исследования делового цикла. В прошлом году дали сразу трём? В этом году лауреат будет один, максимум - двое.
Каждый год в первую неделю октября экономисты гадают, кто получит нобелевскую премию по экономике. Давайте я научу вас, как гадать.
Шаг 1. Берете списки кандидатов, которые обсуждались прошлые пять лет. Вычеркиваете из списков тех, кто получил, и тех, кто не дожил. Например, Пол Ромер, нобелевскую премию которому экономисты предсказывали с начала 2000-х годов, получил её в 2018 году «за включение технологических инноваций в долгосрочный макроэкономический анализ». А Альберто Алезина, который безусловно заслуживал нобелевскую премию за исследования политической экономики (шутники с задних рядов уже кричат «за открытие expansionary austerity») - не дожил.
Шаг 2. Вычеркиваете из списков тех, кто должен был получить нобелевскую премию вместе с кем-то, кто получил. Например, Филип Агийон заслужил премию за модели эндогенного экономического роста, а Мартин Вейцман - за экономику климата. Но мы не дождались отдельного «климатического нобеля» и отдельного «эндогенного нобеля»: комитет в 2018 году решил дать общую премию Уильяму Нордхаусу и Полу Ромеру.
Тем не менее, если жить долго, можно дождаться премии. После премии Полу Кругману в 2008 году сильно понизились шансы получить премию тем, кто вместе с Кругманом создавал новую теорию торговли. Но прошло 12 лет - и долгожители Элханан Хелпман (74) и Авинаш Диксит (76) снова появляются в списках возможных кандидатов. Экстремальный пример: Лукас получил премию в 1995 году, Прескотт в 2004, а Сарджент - в 2011, но, со всеми оговорками, это должна была быть одна премия. Так что у 64-летнего Агийона есть шанс дождаться своей нобелевской премии за экономический рост (вместе с Чадом Джонсом и Дароном Асемоглу?). Есть ли они у 76-летнего Роберта Барро? Долгих лет жизни, конечно.
Многие из потенциальных лауреатов сделали открытия в разных областях, поэтому хотя по факту им дадут «за всё», номинально дать могут за разное и в разных комбинациях. Дарон Асемоглу может получить премию «за рост», «за институты» или (маловероятно, но всё же) «за экономику труда». Джошуа Ангрист может получить премию «за экономику труда» или «за эконометрику». Андрей Шлейфер может получить премию «за поведенческую экономику», «за финансы», «за экономику и право» (но самого вероятного поведенческого нобеля Шлейферу и Рабину, наверное, придётся ещё подождать).
Шаг 3. Нобелевский комитет любит разнообразие. Маловероятно, что в соседние года будут давать премию в одной и той же области экономики. В прошлом году дали премию за экономику развития, а в позапрошлом - за экономический рост? В этом году повышаются шансы премии теоретикам, эконометристам и финансистам. Если всё же дадут макроэкономистам - то не за рост, а за исследования делового цикла. В прошлом году дали сразу трём? В этом году лауреат будет один, максимум - двое.