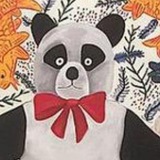Ребята, такое дело: в ближайшие две недели тут будет много информации про лучший российский фестиваль документального кино Beat Film Festival, которому в этом году исполняется 10 лет, и про мою авторскую программу на нем под названием «Новые люди». Извиняться мне тут не за что, поскольку это все проходит буквально по ведомству этого канала; просто имейте в виду. Ну и, собственно, начнем.
Осенью 2015 года с журналистом Wall Street Journal Джоном Каррейру связался источник и сообщил: в компании Theranos что-то нечисто. Theranos к тому времени по общему признанию стал очередным единорогом среди стартапов: под проектом создания технологического устройства, которое расскажет вам про все ваши потенциальные болезни по одной капле крови, подписались куча влиятельных людей, включая бывшего госсекретаря США. Инвесторы вкладывались в Theranos, оценивая общую стоимость компании в 10 миллиардов долларов, а ее основательница Элизабет Холмс смотрела с обложек журналов про технологии и деньги. И тут вылезает источник Каррейру и говорит: все это липа. Устройства нет — и, видимо, не будет; полученную кровь компания отсылает в обычные лаборатории; точность анализов крайне сомнительна — и так далее.
Вы наверняка знаете, что было дальше: книга Каррейру «Bad Blood» с момента выхода торчит в списке лучших по продажам на Amazon. Разумеется, про эту историю должно было появиться кино; более того, я почти уверен, что фильмов будет много, включая художественные. Но пока есть документальное — оно называется «The Inventor», его снял Алекс Гибни, и оно откроет мою программу «Новые люди» на десятом, юбилейном Beat Film Festival в этом году.
Некоторых из тех, кто раньше слышал имя Алекс Гибни (он снимал, например, «Going Clear» про саентологов, который показывали в России, и «Zero Days» про то, как американцы взломали иранскую ядерную программу), оно, наверное, может оттолкнуть. Гибни много снимает — и, вероятно, добивается продуктивности отчасти за счет того, что не сомневается в проверенных и привычных документальных методах: говорящие головы + архивные съемки + натурные съемки, ну как обычно. Но «The Inventor» — все-таки особая история. И вот почему.
Во-первых, сама главная героиня, Элизабет Холмс. Я рискну сказать, что вы не поняли историю Theranos, если не увидели, как Холмс говорит и общается с людьми. «The Inventor» уделяет ей очень много времени — потому что у нее есть какой-то удивительный технологический магнетизм, одновременно притягательный и отталкивающий. Она смотрит, не мигая; она разговаривает так, будто все время немного удивляется собственной гениальности. Неслучайно героями фильма являются в том числе журналисты The New Yorker и Fortune, пожилые белые мужчины, написавшие про Холмс и Theranos восторженные профайлы: один из главных вопросов тут — почему все эти достойные, умные и профессиональные люди ей поверили. А один из возможных ответов — да вы сами на нее посмотрите.
Во-вторых, Гибни добавляет к и без того впечатляющей истории одного бесславного бизнеса дополнительную рамку. Еще один сквозной герой тут — ученый Дэн Ариели, изучающий природу и механику лжи (про него пару лет назад показывали тоже неплохой фильм «(Бес)честность» на фестивале 360). Ариели призван, чтобы попытаться понять не только то, как Холмс удалось то, что удалось, но и зачем она это сделала, что у нее в голове. Сказать, что фильм дает внятный ответ на этот вопрос, было бы преувеличением, но важно, что он его ставит, — и ближе к финалу он затмевает собой все остальные.
Осенью 2015 года с журналистом Wall Street Journal Джоном Каррейру связался источник и сообщил: в компании Theranos что-то нечисто. Theranos к тому времени по общему признанию стал очередным единорогом среди стартапов: под проектом создания технологического устройства, которое расскажет вам про все ваши потенциальные болезни по одной капле крови, подписались куча влиятельных людей, включая бывшего госсекретаря США. Инвесторы вкладывались в Theranos, оценивая общую стоимость компании в 10 миллиардов долларов, а ее основательница Элизабет Холмс смотрела с обложек журналов про технологии и деньги. И тут вылезает источник Каррейру и говорит: все это липа. Устройства нет — и, видимо, не будет; полученную кровь компания отсылает в обычные лаборатории; точность анализов крайне сомнительна — и так далее.
Вы наверняка знаете, что было дальше: книга Каррейру «Bad Blood» с момента выхода торчит в списке лучших по продажам на Amazon. Разумеется, про эту историю должно было появиться кино; более того, я почти уверен, что фильмов будет много, включая художественные. Но пока есть документальное — оно называется «The Inventor», его снял Алекс Гибни, и оно откроет мою программу «Новые люди» на десятом, юбилейном Beat Film Festival в этом году.
Некоторых из тех, кто раньше слышал имя Алекс Гибни (он снимал, например, «Going Clear» про саентологов, который показывали в России, и «Zero Days» про то, как американцы взломали иранскую ядерную программу), оно, наверное, может оттолкнуть. Гибни много снимает — и, вероятно, добивается продуктивности отчасти за счет того, что не сомневается в проверенных и привычных документальных методах: говорящие головы + архивные съемки + натурные съемки, ну как обычно. Но «The Inventor» — все-таки особая история. И вот почему.
Во-первых, сама главная героиня, Элизабет Холмс. Я рискну сказать, что вы не поняли историю Theranos, если не увидели, как Холмс говорит и общается с людьми. «The Inventor» уделяет ей очень много времени — потому что у нее есть какой-то удивительный технологический магнетизм, одновременно притягательный и отталкивающий. Она смотрит, не мигая; она разговаривает так, будто все время немного удивляется собственной гениальности. Неслучайно героями фильма являются в том числе журналисты The New Yorker и Fortune, пожилые белые мужчины, написавшие про Холмс и Theranos восторженные профайлы: один из главных вопросов тут — почему все эти достойные, умные и профессиональные люди ей поверили. А один из возможных ответов — да вы сами на нее посмотрите.
Во-вторых, Гибни добавляет к и без того впечатляющей истории одного бесславного бизнеса дополнительную рамку. Еще один сквозной герой тут — ученый Дэн Ариели, изучающий природу и механику лжи (про него пару лет назад показывали тоже неплохой фильм «(Бес)честность» на фестивале 360). Ариели призван, чтобы попытаться понять не только то, как Холмс удалось то, что удалось, но и зачем она это сделала, что у нее в голове. Сказать, что фильм дает внятный ответ на этот вопрос, было бы преувеличением, но важно, что он его ставит, — и ближе к финалу он затмевает собой все остальные.
«The Inventor» легко можно было бы превратить в обвинительное заключение для всего технологического пузыря Кремниевой долины, где развито беспочвенное мессианство, а огромные деньги тратятся на утопические идеи, в то время как реальный Сан-Франциско наводнен бездомными, и нормальной программы помощи нет (простите, больной вопрос). К его чести, Гибни от этого воздерживается. Режиссеру интереснее природа лжи и доверия — но у зрителя не может не возникать вопросов про то, насколько эта ложь характерна именно для этой индустрии. Theranos — это аномалия или просто Холмс была наглее других таких же? Значит ли эта история, что в этой истории мошенникам легко прийти к успеху, — и как этого избежать? Тут есть, о чем поговорить, — и после показа мы это сделаем в компании людей, которые испытали это все на собственных жизнях и кошельках. Участвуют Николай Ковтуненко, который делал биотехнологический стартап Gero, Валерий Ильинский, основатель компании Genotek, занимающейся генетическими тестами — и это, скорее всего, еще не все, но я решил, что пора уже анонсировать.
Произойдет все это в пятницу, 31 мая, в 20.15 в кинотеатре «Октябрь». Билеты еще есть, но уже не так много.
NB: В переводе фильм у нас называется «Изобретатель: Жажда крови в Силиконовой долине». Конечно, по-русски правильно было бы «Изобретательница» и «в Кремниевой долине». Но так фильм будет называться в «Амедиатеке», и по ряду причин сделать с этим ничего нельзя. Прошу прощения.
https://beatfilmfestival.ru/movies/the-inventor/
Произойдет все это в пятницу, 31 мая, в 20.15 в кинотеатре «Октябрь». Билеты еще есть, но уже не так много.
NB: В переводе фильм у нас называется «Изобретатель: Жажда крови в Силиконовой долине». Конечно, по-русски правильно было бы «Изобретательница» и «в Кремниевой долине». Но так фильм будет называться в «Амедиатеке», и по ряду причин сделать с этим ничего нельзя. Прошу прощения.
https://beatfilmfestival.ru/movies/the-inventor/
Beat Film Festival
Международный фестиваль документального кино о новой культуре.
Forwarded from Извините, пирожки
Всю неделю читал тексты про 20-летие победы «Ман Юнайтед» в финале ЛЧ-1999 и наткнулся на совершенно грандиозную и максимально детализированную летопись всех ожиданий, обстоятельств и последствий. Текст этот особенно хорош тем, что всем подробностям там придан равный вес – после прочтения начинаешь понимать, что нельзя объяснить этот камбэк только заменами Фергюсона и удачей; там еще куча факторов, случайное совпадение которых сделало этот финал одним из лучших в истории турнира.
Выбрал самое интересное, но обязательно прочитайте целиком!
– Принято считать, что необычный стартовый состав «МЮ» в финале (Бекхэм в центре поля, Гиггз справа) был обусловлен отсутствием Кина и Скоулза. Это справедливо лишь отчасти. На самом деле Алекс Фергюсон так сильно ценил победу в ЛЧ, что на три первых своих финала (1999, 2008 и 2009) выставлял уникальные составы – в таких сочетаниях его команды не играли ни до, ни после.
– Оле-Гуннар Сульшер перед матчем созвонился со своим норвежским другом, который работал медбратом – тот собирался посмотреть первые 75 минут матча и пойти на смену. Сульшер убедил его взять отгул, чтобы посмотреть и концовку: Оле был уверен, что что-то произойдет.
– Рой Кин был дико расстроен пропуском финала. За несколько дней до матча он был таким мрачным, что Ферги попросил своего помощника бухать с Кином по вечерам, чтобы он не мешал одноклубникам настраиваться на финал. Кин и до сих пор считает, что не заслуживал победы в ЛЧ, и даже отказался выйти с кубком из самолета, когда команда прилетела в Манчестер.
– О роли тренерских слов в перерыве. После первого тайма «МЮ» проигрывал 0:1 и особо ничего не создал, поэтому Фергюсон сказал игрокам: «Если проиграете, то будете уходить с поля мимо кубка, который вам нельзя будет взять в руки. Это худшее чувство в мире». Ферги считает, что эти слова задели футболистов за живое. Гари Невилл признается, что ничего такого не помнит.
– Когда Бекхэм готовился подавать угловой, который закончился голом Шерингема, Петер Шмейхель рванул в чужую штрафную вопреки тренерской установке. Ферги не просил его так делать, тем более что предыдущее такое подключение, в кубковом матче против «Арсенала», закончилось для Шмейхеля травмой – потянул мышцу, когда бежал обратно. Но в этот раз Шмейхель смутил игроков «Баварии» и оказался прав.
– Поведение Марио Баслера, который открыл счет, бесило игроков «МЮ» по ходу всего матча – он слишком картинно отпраздновал гол, несколько раз позировал операторам на бровке перед тем, как вбросить аут, а также уходил с поля на замену так, как будто уже готов был забрать кубок. Яп Стам хотел ударить его прямо по ходу игры, но сдержался, зато Сульшер нарочно отпраздновал победный гол так же, как Баслер – прокатившись на коленях. Как говорил один известный киногерой, не надо злить нас!
Выбрал самое интересное, но обязательно прочитайте целиком!
– Принято считать, что необычный стартовый состав «МЮ» в финале (Бекхэм в центре поля, Гиггз справа) был обусловлен отсутствием Кина и Скоулза. Это справедливо лишь отчасти. На самом деле Алекс Фергюсон так сильно ценил победу в ЛЧ, что на три первых своих финала (1999, 2008 и 2009) выставлял уникальные составы – в таких сочетаниях его команды не играли ни до, ни после.
– Оле-Гуннар Сульшер перед матчем созвонился со своим норвежским другом, который работал медбратом – тот собирался посмотреть первые 75 минут матча и пойти на смену. Сульшер убедил его взять отгул, чтобы посмотреть и концовку: Оле был уверен, что что-то произойдет.
– Рой Кин был дико расстроен пропуском финала. За несколько дней до матча он был таким мрачным, что Ферги попросил своего помощника бухать с Кином по вечерам, чтобы он не мешал одноклубникам настраиваться на финал. Кин и до сих пор считает, что не заслуживал победы в ЛЧ, и даже отказался выйти с кубком из самолета, когда команда прилетела в Манчестер.
– О роли тренерских слов в перерыве. После первого тайма «МЮ» проигрывал 0:1 и особо ничего не создал, поэтому Фергюсон сказал игрокам: «Если проиграете, то будете уходить с поля мимо кубка, который вам нельзя будет взять в руки. Это худшее чувство в мире». Ферги считает, что эти слова задели футболистов за живое. Гари Невилл признается, что ничего такого не помнит.
– Когда Бекхэм готовился подавать угловой, который закончился голом Шерингема, Петер Шмейхель рванул в чужую штрафную вопреки тренерской установке. Ферги не просил его так делать, тем более что предыдущее такое подключение, в кубковом матче против «Арсенала», закончилось для Шмейхеля травмой – потянул мышцу, когда бежал обратно. Но в этот раз Шмейхель смутил игроков «Баварии» и оказался прав.
– Поведение Марио Баслера, который открыл счет, бесило игроков «МЮ» по ходу всего матча – он слишком картинно отпраздновал гол, несколько раз позировал операторам на бровке перед тем, как вбросить аут, а также уходил с поля на замену так, как будто уже готов был забрать кубок. Яп Стам хотел ударить его прямо по ходу игры, но сдержался, зато Сульшер нарочно отпраздновал победный гол так же, как Баслер – прокатившись на коленях. Как говорил один известный киногерой, не надо злить нас!
Когда я еще работал в «Медузе», я в какой-то момент начал кривиться на все темы, связанные с Северной Кореей. Потому что все они, честно говоря, довольно одинаковые и одинаково спекулируют на одной яркой особенности КНДР: она позиционируется как самая закрытая страна мира, на самом деле таковой не являясь; при всех неоспоримых ужасах местного режима западному (а особенно — российскому) человеку не так уж сложно туда доехать, посмотреть на это своими глазами и все эти ужасы описать. Чем многие и пользуются — включая, например, режиссера Виталия Манского, чей фильм «В лучах солнца» является образцовым примером экзотизации Северной Кореи и последовательной отработки всех штампов про надзор, тоталитаризм, промывку мозгов и прочие местные дела. Я не говорю, что эти штампы неверны. Но это попросту довольно скучно.
Так вот: есть в западном мире человек, который умеет нескучно думать про Северную Корею и провоцирует к этому других. Его зовут Мортен Тровик, он из Норвегии, и четыре года назад он организовал первый в истории КНДР рок-концерт, привезя туда группу Laibach. Про это на Beat Film Festival показывали фильм «День освобождения», который Тровик снял сам. Проблема была в одном: фильм сильно менее удачный, чем само событие. Уж не знаю, поэтому ли, но к фильму про следующую эскападу Тровика в Северной Корее он сам уже прямого отношения не имеет. И получилось прямо гораздо лучше.
В чем сюжет. Тровик набрал по Европе (плюс один из Китая) дюжину современных художников — и повез их в КНДР обмениваться опытом с художниками местными. Европейцы современные во всех смыслах слова: один рисует кровью, другое делает аудиоинсталляции, третий снимает арт-фотографии и так далее. Корейцы, конечно, современные только с точки зрения календаря — а так рисуют пейзажи и монументальную живопись, сочиняют гимны про великих вождей и так далее. Между двумя группами — неизбежные посредники в виде чиновников и гебешников, приставленных к делегации Тровика. Все вроде бы хотят понять и принять друг друга, но у всех то и дело сдают нервы — то фотограф идет на площадь снимать построение школьниц без провожатых, то у корейского минкультовца сдают нервы, когда он слышит аудиоинсталляцию про звуки, которые издают насекомые.
Все это снимает Томми Гуликсен, и в итоге получается фильм «Война искусств», настоящая документальная комедия — при этом умная и глубокая, после которой долго думаешь, что вообще такое культурный обмен, точно ли он нужен и верно ли вообще исходить из того, что европейское искусство более современно, чем северно-корейское. Честно скажу: исходя из вышеописанного отношения к корейской теме, я сначала скептически относился к идее включать этот фильм в свою программу на Beat Film Festival, пусть даже в концепт «Новые люди» он ложится идеально; но когда посмотрел — понял, что показывать надо безусловно. Я бы сказал, что «Война искусств» — это история продуктивного поражения, неудачного опыта, который приносит больше, чем настоящая удача. Но даже если не вдаваться в философию — это как минимум очень смешно и дико; и КНДР мы тут видим куда более живую и занятную, чем ту, что европейцы показывают и описывают обычно.
«Война искусств» — это еще и тот случай, когда страшно интересно сверить перспективы автора и героя. Этим мы и займемся после первого показа: на него приедут и Тровик, и Гуликсен, а проинтервьюирует их Нина Назарова — журналистка «Русской службы Би-би-си», которая в 2015 году была на том самом концерте Laibach в Пхеньяне (ну и еще она, к счастью, моя жена). Происходит это вечером 5 июня в одном из лучших летних мест Москвы — кинотеатре «Гаража». Билеты — тут: https://beatfilmfestival.ru/movies/art-of-war/
А если, например, в этот день вы идете в само здание «Гаража» на концерт Камаси Вашингтона, тоже не беда: будет еще несколько показов; один на следующий день тоже с Тровиком и Гуликсеном, еще два — 8 и 12 июня. По ссылке можно купить билеты на каждый.
Так вот: есть в западном мире человек, который умеет нескучно думать про Северную Корею и провоцирует к этому других. Его зовут Мортен Тровик, он из Норвегии, и четыре года назад он организовал первый в истории КНДР рок-концерт, привезя туда группу Laibach. Про это на Beat Film Festival показывали фильм «День освобождения», который Тровик снял сам. Проблема была в одном: фильм сильно менее удачный, чем само событие. Уж не знаю, поэтому ли, но к фильму про следующую эскападу Тровика в Северной Корее он сам уже прямого отношения не имеет. И получилось прямо гораздо лучше.
В чем сюжет. Тровик набрал по Европе (плюс один из Китая) дюжину современных художников — и повез их в КНДР обмениваться опытом с художниками местными. Европейцы современные во всех смыслах слова: один рисует кровью, другое делает аудиоинсталляции, третий снимает арт-фотографии и так далее. Корейцы, конечно, современные только с точки зрения календаря — а так рисуют пейзажи и монументальную живопись, сочиняют гимны про великих вождей и так далее. Между двумя группами — неизбежные посредники в виде чиновников и гебешников, приставленных к делегации Тровика. Все вроде бы хотят понять и принять друг друга, но у всех то и дело сдают нервы — то фотограф идет на площадь снимать построение школьниц без провожатых, то у корейского минкультовца сдают нервы, когда он слышит аудиоинсталляцию про звуки, которые издают насекомые.
Все это снимает Томми Гуликсен, и в итоге получается фильм «Война искусств», настоящая документальная комедия — при этом умная и глубокая, после которой долго думаешь, что вообще такое культурный обмен, точно ли он нужен и верно ли вообще исходить из того, что европейское искусство более современно, чем северно-корейское. Честно скажу: исходя из вышеописанного отношения к корейской теме, я сначала скептически относился к идее включать этот фильм в свою программу на Beat Film Festival, пусть даже в концепт «Новые люди» он ложится идеально; но когда посмотрел — понял, что показывать надо безусловно. Я бы сказал, что «Война искусств» — это история продуктивного поражения, неудачного опыта, который приносит больше, чем настоящая удача. Но даже если не вдаваться в философию — это как минимум очень смешно и дико; и КНДР мы тут видим куда более живую и занятную, чем ту, что европейцы показывают и описывают обычно.
«Война искусств» — это еще и тот случай, когда страшно интересно сверить перспективы автора и героя. Этим мы и займемся после первого показа: на него приедут и Тровик, и Гуликсен, а проинтервьюирует их Нина Назарова — журналистка «Русской службы Би-би-си», которая в 2015 году была на том самом концерте Laibach в Пхеньяне (ну и еще она, к счастью, моя жена). Происходит это вечером 5 июня в одном из лучших летних мест Москвы — кинотеатре «Гаража». Билеты — тут: https://beatfilmfestival.ru/movies/art-of-war/
А если, например, в этот день вы идете в само здание «Гаража» на концерт Камаси Вашингтона, тоже не беда: будет еще несколько показов; один на следующий день тоже с Тровиком и Гуликсеном, еще два — 8 и 12 июня. По ссылке можно купить билеты на каждый.
Beat Film Festival
Международный фестиваль документального кино о новой культуре
Подумал тут, что в некотором смысле мою программу на Beat Film Festival можно описать как череду попыток по-новому развернуть опостылевшие жанры, преодолеть навязшие в зубах стилистические и политические клише. Вот есть жанр высказывания про КНДР — а вот «War of Art» его разворачивает в что-то более сложное. Вот есть жанр истории про активистов, борющихся с несвободой, — а вот есть фильм «Во славу тьмы?» (он же «Hail Satan?»), который тоже, в общем-то, про активистов, борющихся с несвободой, просто эти активисты решили, что будут называть себя сатанистами и чествовать Люцифера. И это, прямо скажем, многое меняет.
Мы показываем этот фильм вовремя: только-только люди в Екатеринбурге отстояли дорогой им сквер, чтобы там не строили православную церковь и прилегающую к ней дорогую недвижимость (кажется, сейчас уже можно сказать, что правда отстояли). Все произошедшее можно осмыслять по-разному, но один из очевидных способов — думать об этом как о протесте против навязанной религии. Так вот, герои «Во славу тьмы?» — люди, создавшие в США организацию Храм Сатаны, — занимаются ровно тем же. Козлинобородый идол им нужен вовсе не за тем, чтобы устраивать обсценные оргии, а за тем, чтобы поймать за руку пуританскую Америку, которая одновременно декларирует религиозную свободу для любых конфессий — и на государственном уровне привечает исключительно христианского бога.
Тут отступление для тех, кто не был в США или был только в Нью-Йорке. Америка при всем своем декларированном либерализме — страшно религиозная страна, что в принципе понятно, учитывая, кем были первые поселенцы. Конфессиональная принадлежность определяет человека не хуже, чем его спортивные пристрастия, особенно в южных штатах. Там и на Мидвесте храмы вторгаются в пейзаж, обозреваемый с больших шоссе, едва ли не чаще, чем заправки. И очевидно, что американцы раньше изберут президентом гея, чем атеиста (отсюда же — священность брака в политике; неженатого или незамужнюю тоже изберут нескоро). В этом, разумеется, нет ничего специально плохого — до тех пор, пока религия не начинает поддавливать гражданские свободы. А она определенно начинает, и вся нынешняя история с дикими законами против абортов в Джорджии и Алабаме — в том числе и про это.
Ну так вот. Выпускник Гарварда с дипломом нейрофизиолога, действительно вполне инфернально выглядящий одноглазый человек Люсьен Гривз придумал, что будет выявлять государственное религиозное лицемерие через Храм Сатаны: устраивать службы и митинги во славу Люцифера (ведь по Конституции — можно), устанавливать памятники дьяволу на земле госучреждений (ведь там стоят монументы с цитатами из Библии). Логичным образом Храм Сатаны быстро становится еще и средством community building, центром притяжения обаятельных людей со странностями: герои фильма — все как на подбор очень привлекательные фрики. У организации появляются ячейки — причем девушка, создавшая таковую в Детройте, в какой-то момент оказывается слишком сатанисткой даже для сатанистов. Все очень смешно и весело — но никто не забывает о том, зачем все это и с кем мы боремся.
Режиссерка Пенни Лэйн (девушку правда так зовут; она еще снимала очень милый и смешной фильм «Nuts!», который показывали на фестивале 360 пару лет назад) снимает все эти сатанинские службы и церемонии, встречи и конференции ровно так, как принято снимать любых других активистов, — но, безусловно, имеет в виду некую иронию. Получается неожиданно и бодро; ну и вообще круто, что это еще и разоблачение мифа про страшных сатанистов, охотящихся за вашими детьми, — на деле-то они оказываются куда более милыми, чем многие священники; полезное сообщение в эпоху «Синих китов». И помимо прочего, раз уж зашла речь о Екатеринбурге, полезная стратегическая инструкция — «Во славу тьму?» здорово показывает, как можно использовать официальные процедуры против тех, кто этими процедурами злоупотребляет; это в некотором смысле еще и история про «соблюдайте ваши законы».
Мы показываем этот фильм вовремя: только-только люди в Екатеринбурге отстояли дорогой им сквер, чтобы там не строили православную церковь и прилегающую к ней дорогую недвижимость (кажется, сейчас уже можно сказать, что правда отстояли). Все произошедшее можно осмыслять по-разному, но один из очевидных способов — думать об этом как о протесте против навязанной религии. Так вот, герои «Во славу тьмы?» — люди, создавшие в США организацию Храм Сатаны, — занимаются ровно тем же. Козлинобородый идол им нужен вовсе не за тем, чтобы устраивать обсценные оргии, а за тем, чтобы поймать за руку пуританскую Америку, которая одновременно декларирует религиозную свободу для любых конфессий — и на государственном уровне привечает исключительно христианского бога.
Тут отступление для тех, кто не был в США или был только в Нью-Йорке. Америка при всем своем декларированном либерализме — страшно религиозная страна, что в принципе понятно, учитывая, кем были первые поселенцы. Конфессиональная принадлежность определяет человека не хуже, чем его спортивные пристрастия, особенно в южных штатах. Там и на Мидвесте храмы вторгаются в пейзаж, обозреваемый с больших шоссе, едва ли не чаще, чем заправки. И очевидно, что американцы раньше изберут президентом гея, чем атеиста (отсюда же — священность брака в политике; неженатого или незамужнюю тоже изберут нескоро). В этом, разумеется, нет ничего специально плохого — до тех пор, пока религия не начинает поддавливать гражданские свободы. А она определенно начинает, и вся нынешняя история с дикими законами против абортов в Джорджии и Алабаме — в том числе и про это.
Ну так вот. Выпускник Гарварда с дипломом нейрофизиолога, действительно вполне инфернально выглядящий одноглазый человек Люсьен Гривз придумал, что будет выявлять государственное религиозное лицемерие через Храм Сатаны: устраивать службы и митинги во славу Люцифера (ведь по Конституции — можно), устанавливать памятники дьяволу на земле госучреждений (ведь там стоят монументы с цитатами из Библии). Логичным образом Храм Сатаны быстро становится еще и средством community building, центром притяжения обаятельных людей со странностями: герои фильма — все как на подбор очень привлекательные фрики. У организации появляются ячейки — причем девушка, создавшая таковую в Детройте, в какой-то момент оказывается слишком сатанисткой даже для сатанистов. Все очень смешно и весело — но никто не забывает о том, зачем все это и с кем мы боремся.
Режиссерка Пенни Лэйн (девушку правда так зовут; она еще снимала очень милый и смешной фильм «Nuts!», который показывали на фестивале 360 пару лет назад) снимает все эти сатанинские службы и церемонии, встречи и конференции ровно так, как принято снимать любых других активистов, — но, безусловно, имеет в виду некую иронию. Получается неожиданно и бодро; ну и вообще круто, что это еще и разоблачение мифа про страшных сатанистов, охотящихся за вашими детьми, — на деле-то они оказываются куда более милыми, чем многие священники; полезное сообщение в эпоху «Синих китов». И помимо прочего, раз уж зашла речь о Екатеринбурге, полезная стратегическая инструкция — «Во славу тьму?» здорово показывает, как можно использовать официальные процедуры против тех, кто этими процедурами злоупотребляет; это в некотором смысле еще и история про «соблюдайте ваши законы».
В силу актуальности всего этого дела для России, после первого показа «Во славу тьмы?» мы обсудим увиденное с людьми, которые про религии и их темную сторону знают все. Это Алексей Ибсоратов, один из создателей проекта Katabasia, занимающегося исследованиями психокультуры, искусстовед Андрей Парщиков, изучающий магию в культуре, религиовед Роман Лункин, а также мой бывший коллега по «Медузе», а сейчас шеф-редактор «Арзамаса» Саша Борзенко. Состав кажется достаточно непредсказуемым, чтобы разговор после фильма соответствовал восклицательной планке, им заданной.
Показ с дискуссией происходит 2 июня в «Иллюзионе»; еще «Во славу тьмы?» можно будет увидеть 9 июня в Мультимедиа арт музее. Билеты — тут: https://beatfilmfestival.ru/movies/hail-satan/
Показ с дискуссией происходит 2 июня в «Иллюзионе»; еще «Во славу тьмы?» можно будет увидеть 9 июня в Мультимедиа арт музее. Билеты — тут: https://beatfilmfestival.ru/movies/hail-satan/
Beat Film Festival
Во славу тьмы?
Сатанисты как политические панки
Пионером современного телевидения в России справедливо принято считать Влада Листьева — человека, который одинаково успешно вел и общественно-политические программы, и развлекательные игры, и проблемные ток-шоу, предшествовавшие «Пусть говорят», и интервью один на один. Майка Уоллеса очень грубо можно назвать американским Листьевым — только, конечно, с очень большим количеством поправок и оговорок.
Уоллес фактически создавал американское (а значит, и мировое) телевидение, каким мы его знаем: пришел туда в конце 1940-х с радио — сначала вел развлекательные шоу и снимался в рекламе, потом перешел на более серьезные материи и едва ли не первым в стране стал брать на экране конфликтные интервью и задавать неудобные вопросы; собеседники возмущались, отчего передачи Уоллеса становились только популярнее. В отличие от Листьева, Уоллес прожил долго — и успел проинтервьюировать и Сальвадора Дали, и — в 2005 году, когда ему было 87 лет — Владимира Путина. По дороге между одним и другим он успел создать жанр современного новостного альманаха, став соведущим до сих пор существующей программы «60 Minutes» (см., например, классические парфеновские «Намедни» начала 2000-х — это все оттуда). Проинтервьюировать в Тегеране Аятоллу Хомейни в 1979 году, в разгар кризиса с американскими заложниками, причем иранский духовный лидер сам попросил привезти ему Уоллеса. Одним из первых атаковать табачную индустрию по телевизору — и это при том, что передачи Уоллеса в 1950-х исправно начинались с сообщения о том, что он курит «Парламент».
В общем, история Уоллеса — это история и современного телевидения, и фильм «С вами Майк Уоллес», который мы тоже показываем в программе «Новые люди» на Beat Film Festival, ровно ее и рассказывает. Причем делает это очень лихо, монтируя в одну бодрую картину сотни и тысячи часов, оставшихся от великого журналиста, который умер в 2012 году, не дожив шесть лет до столетия. Легко представить, как такое кино можно было бы сделать торжественно и академично, — с говорящими головами и перечислением заслуг; режиссер Ави Белкин делает по-другому — это очень стремительное и быстрое кино, которое высвечивает все противоречия Уоллеса: человека, любившего журналистские манипуляции, красивую жизнь и высший свет, но упиравшегося рогом, как только речь заходила о принципах. Тем и был велик.
В конце концов, «С вами Майк Уоллес» — свидетельство того, что жить стоит долго, а архивы, вопреки провозглашенному, надо все-таки заводить. Ну и что еще важно: в эпоху, когда все ненавидят телевизор (в том числе — в США), это напоминание о том, почему его когда-то все любили и что он умеет.
«С вами Майк Уоллес» мы покажем 3 июня в «Октябре» в 8 вечера. Билеты — здесь: https://beatfilmfestival.ru/movies/mike-wallace-is-here/
Вот «Медуза» сделала подборку интервью, по которым можно составить представление о Уоллесе, — посмотрите, это правда впечатляет: https://meduza.io/slides/donald-tramp-tina-terner-i-ayatolla-homeyni-luchshie-intervyu-mayka-uollesa (трудно не заметить, что материал не сообщает, что фильм — часть моей программы, ну, как водится, да ладно).
Уоллес фактически создавал американское (а значит, и мировое) телевидение, каким мы его знаем: пришел туда в конце 1940-х с радио — сначала вел развлекательные шоу и снимался в рекламе, потом перешел на более серьезные материи и едва ли не первым в стране стал брать на экране конфликтные интервью и задавать неудобные вопросы; собеседники возмущались, отчего передачи Уоллеса становились только популярнее. В отличие от Листьева, Уоллес прожил долго — и успел проинтервьюировать и Сальвадора Дали, и — в 2005 году, когда ему было 87 лет — Владимира Путина. По дороге между одним и другим он успел создать жанр современного новостного альманаха, став соведущим до сих пор существующей программы «60 Minutes» (см., например, классические парфеновские «Намедни» начала 2000-х — это все оттуда). Проинтервьюировать в Тегеране Аятоллу Хомейни в 1979 году, в разгар кризиса с американскими заложниками, причем иранский духовный лидер сам попросил привезти ему Уоллеса. Одним из первых атаковать табачную индустрию по телевизору — и это при том, что передачи Уоллеса в 1950-х исправно начинались с сообщения о том, что он курит «Парламент».
В общем, история Уоллеса — это история и современного телевидения, и фильм «С вами Майк Уоллес», который мы тоже показываем в программе «Новые люди» на Beat Film Festival, ровно ее и рассказывает. Причем делает это очень лихо, монтируя в одну бодрую картину сотни и тысячи часов, оставшихся от великого журналиста, который умер в 2012 году, не дожив шесть лет до столетия. Легко представить, как такое кино можно было бы сделать торжественно и академично, — с говорящими головами и перечислением заслуг; режиссер Ави Белкин делает по-другому — это очень стремительное и быстрое кино, которое высвечивает все противоречия Уоллеса: человека, любившего журналистские манипуляции, красивую жизнь и высший свет, но упиравшегося рогом, как только речь заходила о принципах. Тем и был велик.
В конце концов, «С вами Майк Уоллес» — свидетельство того, что жить стоит долго, а архивы, вопреки провозглашенному, надо все-таки заводить. Ну и что еще важно: в эпоху, когда все ненавидят телевизор (в том числе — в США), это напоминание о том, почему его когда-то все любили и что он умеет.
«С вами Майк Уоллес» мы покажем 3 июня в «Октябре» в 8 вечера. Билеты — здесь: https://beatfilmfestival.ru/movies/mike-wallace-is-here/
Вот «Медуза» сделала подборку интервью, по которым можно составить представление о Уоллесе, — посмотрите, это правда впечатляет: https://meduza.io/slides/donald-tramp-tina-terner-i-ayatolla-homeyni-luchshie-intervyu-mayka-uollesa (трудно не заметить, что материал не сообщает, что фильм — часть моей программы, ну, как водится, да ладно).
Beat Film Festival
С вами Майк Уоллес
История телеведущего, придумавшего современную журналистику
В мае 2017 года Челси Мэннинг вышла из тюрьмы, куда ее посадили в 2010 году, когда она еще была американским военнослужащим Брэдли Мэннингом, который слил Wikileaks тонны документов об военных преступлениях США в Ираке и Афганистане. Посадили Мэннинг при Обаме; Обама ее и отпустил, радикально сократив солдату, которая в тюрьме начала проходить через процедуры по коррекции пола, срок. В марте 2019-го Мэннинг арестовали снова — за то, что она отказалась давать показанию по делу против Wikileaks; видимо, тому самому, по которому скоро (или нескоро) будут судить Ассанжа. А между двумя этими событиями за ней следовал с камерой режиссер Тим Трэверс Хокинс. Получился фильм «XY Челси» — еще один фигурант моей программы «Новые люди» на Beat Film Festival.
То есть это не «жизнь после новостей», а «жизнь между новостями»; тоже в некотором роде модернизация жанра — и это важно, потому что героиня обнаруживает себя именно что в своего рода чистилище, в промежуточном состоянии, выходи из которого неясен. Сторонники ее любят и поддерживают; по всей стране Мэннинг хотят слушать и ищут уже ее поддержки; ей приходится быть голосом свободы информации и американских трансгендеров — но насколько она ко всему этому готова, неясно. Именно в этом смысле «XY Челси» — не совсем обычный фильм о героине-борце: он рассказывает не столько про ее подвиги, сколько про сомнения вокруг того, насколько она к этим подвигам (была) готова, — и тут, конечно, отдельно важна вся эта история про отношения с собственным гендером, очень мощная и очень мучительная. Вышло очень лирическое и пронзительное кино — особенно в конце; те, кто следил за происходившим с Мэннинг в эти два года, могут догадаться, какой эпизод тут становится ключевым, остальным не буду портить саспенс.
На самом деле, дико интересно было бы посмотреть такой же фильм про Сноудена — как он живет в этой Москве, куда ходит за продуктами, как кукует полуночником, чтобы выступать на американских конференциях, как изображает из себя пророка в твиттере и страдает, переживает, мучается сомнениями. Наверняка ведь ему непросто. Но Сноуден в России, поэтому посмотреть мы на него пока не можем. А на Челси Мэннинг, которой в некотором смысле пришлось еще сложнее, — можем.
Мы показываем «XY Челси» 4 июня в «Октябре» и 10 июня — в Центре документального кино. Билеты — здесь: https://beatfilmfestival.ru/movies/xy-chelsea/
То есть это не «жизнь после новостей», а «жизнь между новостями»; тоже в некотором роде модернизация жанра — и это важно, потому что героиня обнаруживает себя именно что в своего рода чистилище, в промежуточном состоянии, выходи из которого неясен. Сторонники ее любят и поддерживают; по всей стране Мэннинг хотят слушать и ищут уже ее поддержки; ей приходится быть голосом свободы информации и американских трансгендеров — но насколько она ко всему этому готова, неясно. Именно в этом смысле «XY Челси» — не совсем обычный фильм о героине-борце: он рассказывает не столько про ее подвиги, сколько про сомнения вокруг того, насколько она к этим подвигам (была) готова, — и тут, конечно, отдельно важна вся эта история про отношения с собственным гендером, очень мощная и очень мучительная. Вышло очень лирическое и пронзительное кино — особенно в конце; те, кто следил за происходившим с Мэннинг в эти два года, могут догадаться, какой эпизод тут становится ключевым, остальным не буду портить саспенс.
На самом деле, дико интересно было бы посмотреть такой же фильм про Сноудена — как он живет в этой Москве, куда ходит за продуктами, как кукует полуночником, чтобы выступать на американских конференциях, как изображает из себя пророка в твиттере и страдает, переживает, мучается сомнениями. Наверняка ведь ему непросто. Но Сноуден в России, поэтому посмотреть мы на него пока не можем. А на Челси Мэннинг, которой в некотором смысле пришлось еще сложнее, — можем.
Мы показываем «XY Челси» 4 июня в «Октябре» и 10 июня — в Центре документального кино. Билеты — здесь: https://beatfilmfestival.ru/movies/xy-chelsea/
Beat Film Festival
XY Челси
Женщина, которая изменила всё: лирическая биография
Что мы знаем про Мохаммеда Али? Да вроде бы примерно все — как про Майкла Джордана, или Марадону, или какого-нибудь Михаэля Шумахера. Человек из Кентукки; танцуй как бабочка, жаль как пчела; «я величайший на все времена»; избиение Сонни Листона; принятие ислама и политический активизм; Вьетнам и конфликт с властями; схватки с Джо Фрейзером; «Схватка в джунглях» на деньги конголезского диктатора Мобуту; международный комитет за воссоединение The Beatles (было и такое); Паркинсон; Олимпиада в Атланте; оскаровская номинация для Уилла Смита.
А теперь — еще один перечислительный ряд. HBO, главный телеканал мира; Леброн Джеймс, главный баскетболист мира; Антуан Фукуа, автор заметного фильма «Левша». Вместе они сделали и выпустили почти трехчасовой документальный фильм «Меня зовут Мохаммед Али» — и это, вероятно, главное событие года в спортивной документалистике после нетфликсовского «Drive to Survive» (я тут о нем не писал, а надо было; ничего лучше про «Формулу-1» не снимали). И его мы тоже покажем в программе «Новые люди» на Beat Film Festival.
Что тут самое важное? Это фильм не про спортсмена — хотя люди, погруженные в бокс, разумеется, найдут там много для себя интересного; в фейсбуке, например, было любопытное замечание Андрея Подшибякина про скорость Али — я и правда, когда смотрел, сначала не очень понимал, что происходит, почему люди падают, вроде ударил-то несильно. Но про методы или тренировки Али тут все-таки совсем немного — не о том речь. Главное, что поразило меня, когда я посмотрел «Меня зовут Мохаммед Али», — насколько же он был веселым персонажем, клоуном, болтуном, шоуменом. Почему-то никогда об этом не думал и этого не осознавал — а тут это прямо главная тема: Али как звезда, человек, который орудует словом так же профессионально, как кулаками. По сути, «Меня зовут Мохаммед Али» рассматривает феномен боксера в первую очередь с точки зрения поп-культуры; он оказывается такой же иконической для своего времени фигуры, как условная Мэрилин Монро, — и становится очень понятно, почему Али важнее других чернокожих спортсменов, которые тоже шли в активизм (ну, например, приходит в голову Карим Абдул-Джабар). Потому что он умел не быть серьезным.
То есть величие Али не в том, что он умел гениально бить людей, и не в том, что он умел их гениально развлекать, — а в том, что он делал это одновременно. Бил, развлекая, и развлекал, избивая, порхал, как бабочка, и далее по тексту — причем не только на ринге, но и в публичном поле; и знаменитая сцена с зажиганием олимпийского огня трясущейся рукой — она ведь тоже про это. Если вдуматься, это довольно тонкая мысль про политику — а Али, конечно, был в том числе и политиком. И важно, что это не авторская конструкция, пристроенная к герою, — фильм почти целиком построен на прямой речи самого Али из разных интервью; это в некотором смысле автобиография — и в общем понятно, что он и сам примерно так про это думал.
Ну а чтобы все-таки добавить сюда именно спортивной перспективы, рассказать, как Али изменил свой вид спорта и повлиял на все дальнейшее, перед показом будет вступление Андрея Баздрева — человека, который лучше всех умеет писать и рассказывать про бокс на русском языке. Все это произойдет 5 июня в «Октябре» в 8 вечера — и ей-богу, Али и Леброн заслуживают того, чтобы потратить на них три часа своей жизни. Билеты здесь: https://beatfilmfestival.ru/movies/whats-my-name-muhammad-ali/
А теперь — еще один перечислительный ряд. HBO, главный телеканал мира; Леброн Джеймс, главный баскетболист мира; Антуан Фукуа, автор заметного фильма «Левша». Вместе они сделали и выпустили почти трехчасовой документальный фильм «Меня зовут Мохаммед Али» — и это, вероятно, главное событие года в спортивной документалистике после нетфликсовского «Drive to Survive» (я тут о нем не писал, а надо было; ничего лучше про «Формулу-1» не снимали). И его мы тоже покажем в программе «Новые люди» на Beat Film Festival.
Что тут самое важное? Это фильм не про спортсмена — хотя люди, погруженные в бокс, разумеется, найдут там много для себя интересного; в фейсбуке, например, было любопытное замечание Андрея Подшибякина про скорость Али — я и правда, когда смотрел, сначала не очень понимал, что происходит, почему люди падают, вроде ударил-то несильно. Но про методы или тренировки Али тут все-таки совсем немного — не о том речь. Главное, что поразило меня, когда я посмотрел «Меня зовут Мохаммед Али», — насколько же он был веселым персонажем, клоуном, болтуном, шоуменом. Почему-то никогда об этом не думал и этого не осознавал — а тут это прямо главная тема: Али как звезда, человек, который орудует словом так же профессионально, как кулаками. По сути, «Меня зовут Мохаммед Али» рассматривает феномен боксера в первую очередь с точки зрения поп-культуры; он оказывается такой же иконической для своего времени фигуры, как условная Мэрилин Монро, — и становится очень понятно, почему Али важнее других чернокожих спортсменов, которые тоже шли в активизм (ну, например, приходит в голову Карим Абдул-Джабар). Потому что он умел не быть серьезным.
То есть величие Али не в том, что он умел гениально бить людей, и не в том, что он умел их гениально развлекать, — а в том, что он делал это одновременно. Бил, развлекая, и развлекал, избивая, порхал, как бабочка, и далее по тексту — причем не только на ринге, но и в публичном поле; и знаменитая сцена с зажиганием олимпийского огня трясущейся рукой — она ведь тоже про это. Если вдуматься, это довольно тонкая мысль про политику — а Али, конечно, был в том числе и политиком. И важно, что это не авторская конструкция, пристроенная к герою, — фильм почти целиком построен на прямой речи самого Али из разных интервью; это в некотором смысле автобиография — и в общем понятно, что он и сам примерно так про это думал.
Ну а чтобы все-таки добавить сюда именно спортивной перспективы, рассказать, как Али изменил свой вид спорта и повлиял на все дальнейшее, перед показом будет вступление Андрея Баздрева — человека, который лучше всех умеет писать и рассказывать про бокс на русском языке. Все это произойдет 5 июня в «Октябре» в 8 вечера — и ей-богу, Али и Леброн заслуживают того, чтобы потратить на них три часа своей жизни. Билеты здесь: https://beatfilmfestival.ru/movies/whats-my-name-muhammad-ali/
Beat Film Festival
Международный фестиваль документального кино о новой культуре.
У каждого слова своя история; чем важнее это слово для мира, в котором мы живем, — тем эта история интереснее. Вот с чем у вас ассоциируется слово «цивилизация»? У меня, например, с демократией, культурой поведения, гражданскими правами и свободами. А почему? Если начать вдумываться, это ведь не то чтобы очевидные коннотации — употребляем же мы понятие «цивилизация» по отношению к какому-нибудь Древнему Египту, где точно не было ни демократии, ни прав и свобод.
Ответ на этот вопрос, конечно, есть — и он изложен в книге Михаила Велижева «Цивилизация», которая вышла в серии «Азбука понятий», издаваемой Европейским университетом (тут дисклеймер: мы с Мишей давно дружим; считаю, что мне в этом смысле очень повезло). Книжка компактная, но при этом чрезвычайно познавательная и интересная; вообще, чего греха таить, этот жанр — когда умный человек коротко и четко пересказывает мысли других умных людей, добавляя к ним свои — один из моих любимых.
Я попытаюсь изложить тут совсем тезисно какие-то основные вещи, хотя, как всегда в хороших книжках, отдельно интересны отдельные детали и экскурсы — вроде истории про католических миссионеров, построивших цивилизующую утопию в Парагвае, или про идиотическую гибель графа Монморанси, которая в Средневековье воспринималась как героическая из-за других поведенческих кодов.
Понятие «цивилизация» было придумано только в середине XVIII века — прежде всего в оппозицию варварству, как некий собирательный термин, отличающий учтивое, вежливое, нравственное общество. Довольно быстро у него появилось два смысловых направления: цивилизация как состояние и цивилизация как процесс. Вскоре шотландский историк Адам Фергюсон начал употреблять слово «цивилизация» в глобальном смысле, как некой стадии развития человечества, чем существенно расширил оперативный простор понятия. Впрочем, быстро возникла и оппозиция: Руссо считал, что от цивилизации — все зло, и человеку необходимо от нее очиститься; немецкие философы в то же время противопоставили цивилизацию культуре по линии материальное vs. духовное. Во французской исторической традиции в редакции Гизо цивилизация при этом превратилась в своего рода ультимативное понятие, обозначение пика исторического развития, увязанного с политической легитимностью и демократией.
В XIX веке термин взяли на вооружение и в России — но тоже по-своему. Министр просвещения Уваров позаимствовал его из работ преподавателя Ястребцова, который прямо увязывал цивилизацию с просвещением, причем просвещением консервативным, где каждое сословие знает только, что ему надо знать. В здешней традиции русская цивилизация быстро стала противопоставляться европейской со всеми ее изъянами. Вообще, когда читаешь главу про российскую адаптацию термина, поражаешься, насколько все это рифмуется с нынешними временами; особенно это касается Достоевского, который разоблачает «цивилизацию» как идеологему, специально придуманную европейцами, чтобы замаскировать свои истинные намерения в адрес России под гуманистическую риторику.
Дальше в книге есть рассказ про подходы Шпенглера (который всю воинственную мускулистую эсхатологию строил на понятии «цивилизация») и Тойнби (который начал рассматривать истории цивилизаций в логике постоянного преодоления препятствий и наличия средств для того, чтобы справиться с вызовами), но меня больше всего заинтересовала история про историка Норберта Элиаса, о котором я услышал первый раз. Элиас еще в 1930-х начал думать про цивилизацию (или, точнее, цивилизованность) очень по-современному — выводя ее возникновение из кодифицирования мелких поведенческих норм и практик, которое в итоге спровоцировало переход из Средневековья в Новое время. Выработка европейским дворянством «приличий» была тесно увязана с политиком; в конце концов источником норм стал сюзерен — у меня в голове это увязалось с тезисами Фуко, который рассматривал современное общество прежде всего как систему запретов. В книжке Элиас идет рядом еще и с Фрейдом, который противопоставлял цивилизацию инстинктам и выводил из этого разные наши психологические разломы.
Ответ на этот вопрос, конечно, есть — и он изложен в книге Михаила Велижева «Цивилизация», которая вышла в серии «Азбука понятий», издаваемой Европейским университетом (тут дисклеймер: мы с Мишей давно дружим; считаю, что мне в этом смысле очень повезло). Книжка компактная, но при этом чрезвычайно познавательная и интересная; вообще, чего греха таить, этот жанр — когда умный человек коротко и четко пересказывает мысли других умных людей, добавляя к ним свои — один из моих любимых.
Я попытаюсь изложить тут совсем тезисно какие-то основные вещи, хотя, как всегда в хороших книжках, отдельно интересны отдельные детали и экскурсы — вроде истории про католических миссионеров, построивших цивилизующую утопию в Парагвае, или про идиотическую гибель графа Монморанси, которая в Средневековье воспринималась как героическая из-за других поведенческих кодов.
Понятие «цивилизация» было придумано только в середине XVIII века — прежде всего в оппозицию варварству, как некий собирательный термин, отличающий учтивое, вежливое, нравственное общество. Довольно быстро у него появилось два смысловых направления: цивилизация как состояние и цивилизация как процесс. Вскоре шотландский историк Адам Фергюсон начал употреблять слово «цивилизация» в глобальном смысле, как некой стадии развития человечества, чем существенно расширил оперативный простор понятия. Впрочем, быстро возникла и оппозиция: Руссо считал, что от цивилизации — все зло, и человеку необходимо от нее очиститься; немецкие философы в то же время противопоставили цивилизацию культуре по линии материальное vs. духовное. Во французской исторической традиции в редакции Гизо цивилизация при этом превратилась в своего рода ультимативное понятие, обозначение пика исторического развития, увязанного с политической легитимностью и демократией.
В XIX веке термин взяли на вооружение и в России — но тоже по-своему. Министр просвещения Уваров позаимствовал его из работ преподавателя Ястребцова, который прямо увязывал цивилизацию с просвещением, причем просвещением консервативным, где каждое сословие знает только, что ему надо знать. В здешней традиции русская цивилизация быстро стала противопоставляться европейской со всеми ее изъянами. Вообще, когда читаешь главу про российскую адаптацию термина, поражаешься, насколько все это рифмуется с нынешними временами; особенно это касается Достоевского, который разоблачает «цивилизацию» как идеологему, специально придуманную европейцами, чтобы замаскировать свои истинные намерения в адрес России под гуманистическую риторику.
Дальше в книге есть рассказ про подходы Шпенглера (который всю воинственную мускулистую эсхатологию строил на понятии «цивилизация») и Тойнби (который начал рассматривать истории цивилизаций в логике постоянного преодоления препятствий и наличия средств для того, чтобы справиться с вызовами), но меня больше всего заинтересовала история про историка Норберта Элиаса, о котором я услышал первый раз. Элиас еще в 1930-х начал думать про цивилизацию (или, точнее, цивилизованность) очень по-современному — выводя ее возникновение из кодифицирования мелких поведенческих норм и практик, которое в итоге спровоцировало переход из Средневековья в Новое время. Выработка европейским дворянством «приличий» была тесно увязана с политиком; в конце концов источником норм стал сюзерен — у меня в голове это увязалось с тезисами Фуко, который рассматривал современное общество прежде всего как систему запретов. В книжке Элиас идет рядом еще и с Фрейдом, который противопоставлял цивилизацию инстинктам и выводил из этого разные наши психологические разломы.
Более современную макрорамку для понятия «цивилизация» вырабатывает француз Бродель, определяя ее как некое структурное историческое образование, совокупность самых разных отличающих признаков, формирующих некие большие культурные общности, которые видны только на большом расстоянии. Ну и дальше — уже совсем современные подходы вроде сурового американца Хантингтона, который в некотором роде продолжает логику Шпенглера (или мне так показалось) и рассматривает цивилизации как образования, которые могут существовать либо параллельно друг другу, либо в режиме конфликта; то есть отрицает возможность реальных культурных трансферов и диалогов, считая главным двигателем истории войну. Автор книги, конечно, с Хантингтоном не согласен, предлагая осторожный оптимизм, связанный с компаративным подходом и диалогом, с цивилизацией как рамкой, которая одновременно позволяет находить и общее, и различное. Но чуть жутковато в конце все равно становится — кажется, в значительном количестве современных обществ «цивилизация» и правда оказывается понятием скорее изоляционным, чем интеграционным.
(По всей видимости, электронной версии этой книги не существует; даю ссылку на бумажную: https://eupress.ru/books/index/item/id/327)
(По всей видимости, электронной версии этой книги не существует; даю ссылку на бумажную: https://eupress.ru/books/index/item/id/327)
eupress.ru
Издательство Европейского Университета в Санкт-Петербурге - интернет магазин :: Издание :: ЦИВИЛИЗАЦИЯ
или Война миров
или Война миров
👍1
Друзья, прекрасные новости! Спрос на фильмы программы «Новые люди» на Beat Film Festival превысил предложение. В целях регуляции рынка мы добавили несколько дополнительных сеансов.
— «Изобретатель»: фильм про Theranos и Элизабет Холмс. полный аншлаг и восторг на первом показе в прошлую пятницу. Второй (и последний) показ — суббота, ЦДП (экс-35ММ), 17.20. перед показом — небольшая лекция Дениса Сивкова о технологиях как утопии; Денис — один из немногих людей в России, профессионально исследующих современные технологии в их экзистенциальном и технологическом измерениях. Билеты — тут.
— «С вами Майк Уоллес»: фильм про рождение и жизнь современной тележурналистики — и про то, как она должна работать. На первые два сеанса все билеты раскупили знаменитые журналисты (Д. Туровский, А. Уржанов, И. Барабанов и др.); все остались в восторге, но многим не досталось. Теперь можете сходить и вы! 12 июня в ЦДК; билетов МАЛО.
— «Во славу тьмы?»: гомерически смешные хроники американского Храма Сатаны как организации гражданского протеста. На первый сеанс был солдаут, на второй уже почти тоже (8 июня в ЦДК), есть и третий — 9 июня в Мультимедиа арт музее. Все билеты — здесь.
Кто уже ходил на эти фильмы и кому понравилось — расскажите друзьям, напишите в ваших соцсетях и телеграм-каналах, пожалуйста. «Изобретателя» еще потом как-то где-то можно будет увидеть, а Майка Уоллеса и сатанистов — только на этих сеансах.
— «Изобретатель»: фильм про Theranos и Элизабет Холмс. полный аншлаг и восторг на первом показе в прошлую пятницу. Второй (и последний) показ — суббота, ЦДП (экс-35ММ), 17.20. перед показом — небольшая лекция Дениса Сивкова о технологиях как утопии; Денис — один из немногих людей в России, профессионально исследующих современные технологии в их экзистенциальном и технологическом измерениях. Билеты — тут.
— «С вами Майк Уоллес»: фильм про рождение и жизнь современной тележурналистики — и про то, как она должна работать. На первые два сеанса все билеты раскупили знаменитые журналисты (Д. Туровский, А. Уржанов, И. Барабанов и др.); все остались в восторге, но многим не досталось. Теперь можете сходить и вы! 12 июня в ЦДК; билетов МАЛО.
— «Во славу тьмы?»: гомерически смешные хроники американского Храма Сатаны как организации гражданского протеста. На первый сеанс был солдаут, на второй уже почти тоже (8 июня в ЦДК), есть и третий — 9 июня в Мультимедиа арт музее. Все билеты — здесь.
Кто уже ходил на эти фильмы и кому понравилось — расскажите друзьям, напишите в ваших соцсетях и телеграм-каналах, пожалуйста. «Изобретателя» еще потом как-то где-то можно будет увидеть, а Майка Уоллеса и сатанистов — только на этих сеансах.
Так, простите, небольшой апдейт: добавлен показ фильма «Во славу тьмы?» 8 июня в МАММ. Показы 8 июня в ЦДК и 9-го в том же МАММ тоже есть, но на них уже все билеты проданы. Торопитесь!
http://tickets.mamm-mdf.ru/ru/tickets/3757/08.06.2019/15:00
http://tickets.mamm-mdf.ru/ru/tickets/3757/08.06.2019/15:00
tickets.mamm-mdf.ru
Мультимедиа Арт Музей, Москва - Онлайн билеты :: Заказ билетов
Крупнейший российский музей фотографии и мультимедийного искусства. Ежегодно представляет более ста выставочных проектов в России и за рубежом.
Forwarded from psycho daily (Ekaterina Dementieva)
Ване Голунову, самому непримиримому расследовательскому журналисту России, подбросили наркотики и обвиняют в попытке сбыта мефедрона. Об этом пишет «Медуза», где Ваня работает.
Честно говоря, давно я не встречала такой возмутительной и откровенной мести. В отличие от многих из нас, все свободное время Голунов проводит в «Спарке» и соединяет ниточки российских тендеров, находит нарушения, докапывается до героев и производит тексты в колоссальных объемах. Мы немножко дружим, и в Психо Daily Ваня писал о красоте Серпухова (он еще и краевед) и о концерте его любимой певицы Лободы. Просто чтобы вы понимали, кого пытаются представить маленьким закладчиком, несколько ссылок на ежедневную работу Голунова:
1. Как чиновники, силовики и бандиты делят похоронный рынок
https://meduza.io/feature/2018/08/14/grob-kladbische-sotni-milliardov-rubley
2. Как семья вице-мэра Москвы Петра Бирюкова заработала миллиарды и купила на них особняки и квартиры.
https://meduza.io/feature/2018/12/28/penthaus-razmerom-s-dva-eliseevskih
3. Как устроен мусорный бизнес Москвы https://meduza.io/feature/2018/11/01/moskve-nado-izbavitsya-ot-shesti-millionov-tonn-musora-v-kakie-regiony-ego-budut-svozit-i-kto-etim-zaymetsya
4. Кто зарабатывает на реконструкции Москвы https://www.rbc.ru/investigation/society/19/10/2015/561b6c739a79474587968837
5. Как из-за Голунова отменили тендер на 2,2 млрд на концепцию благоустройства https://meduza.io/feature/2017/10/06/moskva-sobiralas-zaplatit-2-2-milliarda-rubley-za-razrabotku-kontseptsii-blagoustroystva-tender-otmenili-iz-za-korrespondenta-meduzy
6. На что живет РПЦ https://www.rbc.ru/investigation/society/24/02/2016/56c84fd49a7947ecbff1473d
7. Как обанкротили банк РПЦ https://meduza.io/feature/2016/10/25/chto-sluchilos-s-peresvetom
8. Как устроен московский рынок зелени и причем тут Дед Хасан
http://bg.ru/society/ljudi_gibnut_za_kinzu-17142/
Честно говоря, давно я не встречала такой возмутительной и откровенной мести. В отличие от многих из нас, все свободное время Голунов проводит в «Спарке» и соединяет ниточки российских тендеров, находит нарушения, докапывается до героев и производит тексты в колоссальных объемах. Мы немножко дружим, и в Психо Daily Ваня писал о красоте Серпухова (он еще и краевед) и о концерте его любимой певицы Лободы. Просто чтобы вы понимали, кого пытаются представить маленьким закладчиком, несколько ссылок на ежедневную работу Голунова:
1. Как чиновники, силовики и бандиты делят похоронный рынок
https://meduza.io/feature/2018/08/14/grob-kladbische-sotni-milliardov-rubley
2. Как семья вице-мэра Москвы Петра Бирюкова заработала миллиарды и купила на них особняки и квартиры.
https://meduza.io/feature/2018/12/28/penthaus-razmerom-s-dva-eliseevskih
3. Как устроен мусорный бизнес Москвы https://meduza.io/feature/2018/11/01/moskve-nado-izbavitsya-ot-shesti-millionov-tonn-musora-v-kakie-regiony-ego-budut-svozit-i-kto-etim-zaymetsya
4. Кто зарабатывает на реконструкции Москвы https://www.rbc.ru/investigation/society/19/10/2015/561b6c739a79474587968837
5. Как из-за Голунова отменили тендер на 2,2 млрд на концепцию благоустройства https://meduza.io/feature/2017/10/06/moskva-sobiralas-zaplatit-2-2-milliarda-rubley-za-razrabotku-kontseptsii-blagoustroystva-tender-otmenili-iz-za-korrespondenta-meduzy
6. На что живет РПЦ https://www.rbc.ru/investigation/society/24/02/2016/56c84fd49a7947ecbff1473d
7. Как обанкротили банк РПЦ https://meduza.io/feature/2016/10/25/chto-sluchilos-s-peresvetom
8. Как устроен московский рынок зелени и причем тут Дед Хасан
http://bg.ru/society/ljudi_gibnut_za_kinzu-17142/
Meduza
В Москве задержан корреспондент «Медузы» Иван Голунов
В Москве полиция задержала корреспондента отдела расследований «Медузы» Ивана Голунова. Об этом рассказал представляющий Голунова адвокат Дмитрий Джулай.
Forwarded from psycho daily (Ekaterina Dementieva)
Отличная история с обложками РБК, «Коммерсанта» и «Ведомостей», но информация о деле Ивана Голунова — не рарный айтем и не артефакт. Ее не надо покупать на память или перепродавать на «Авито». Ее надо распространять. Вы сами можете сделать газету «Коммерсант» и повесить ее у себя в подъезде.
Мы написали пример письма соседям. Делаете копию — редактируете — печатаете — вешаете. Сорвут? Не везде или не сразу. В моем подъезде уже три месяца спокойно висят предвыборные плакаты Любы Соболь, и ничего, живем.
Логотипы Я/Мы Голунов во всех возможных цветах и вариациях и с пантонами. Для футболок, плакатов, постеров, стикеров, татуировок, для дома, города и публичных пространств.
Мы написали пример письма соседям. Делаете копию — редактируете — печатаете — вешаете. Сорвут? Не везде или не сразу. В моем подъезде уже три месяца спокойно висят предвыборные плакаты Любы Соболь, и ничего, живем.
Логотипы Я/Мы Голунов во всех возможных цветах и вариациях и с пантонами. Для футболок, плакатов, постеров, стикеров, татуировок, для дома, города и публичных пространств.
Google Docs
letter to neighbours
Дорогие соседи! Есть журналист Иван Голунов. Он работал в «Ведомостях», РБК и «Медузе» и расследовал проблемы благоустройства, программы «Реновация», похоронного бизнеса и микрокредитов. Ивана Голунова обвиняют в торговле наркотиками и это выглядит как…
Я не буду просить прощения, просто объясню. У меня есть несколько постов, которые я написал впрок для этого канала. Про то, как в Миннесоте украли розовые башмачки Дороти; про смертельно опасное путешествие по реке Конго и даже про то, почему не реагировать на новости — иногда доблесть, а не равнодушие. Проблема в том, что сейчас совсем не это иногда, и вешать эти посты, пока Ваня Голунов сидит под домашним арестом за преступление, которого он не совершал и не мог совершить, кажется чем-то категорически неуместным. Поэтому буду писать (и передавать) про Ваню, его преследование и его тексты.
Ура, можно снова пересказывать лонгриды!
В 2005 году из небольшого дома-музея актрисы Джуди Гарленд в маленьком доме в штате Миннесота был похищен самый ценный экспонат — пара красных башмачков, которые героиня Гарленд носила в «Волшебнике страны Оз», одном из главных фильмов золотой эры Голливуда. Их нашли только спустя 13 лет — в деле сменилось несколько следователей, и каждый из них получал в свое распоряжение огромное количество папок, аудиозаписей и вещдоков, из которых упорно не складывалась какая-либо правдоподобная версия преступления. В полицию городка Гран-Рэпидс регулярно звонили люди, утверждавшие, что точно знают, где находятся башмачки; проверки обычно заканчивались тем, что где-то в захламленном чулане обнаруживались розовые босоножки, даже отдаленно не похожие на нужный экспонат.
И вот в июле 2017 года очередному следователю Брайану Мэттсону позвонил очередной информатор. Он представился посредником, который знал владельца башмачков — и мог поспособствовать их возвращению. Мэттсон мог бы проигнорировать звонившего — таких были уже десятки, — но почувствовал, что тут что-то более серьезное, и начал переговоры. Переговоры были долгими; в какой-то момент в них появился адвокат (со стороны посредника) и ФБР (со стороны расследования). В июле 2018 года все они поехали в Миннеаполис — и адвокат передал башмачки агентам, которые, видимо, заплатили ему за это вознаграждение (хотя я точно не понял). Когда коробку открыли, все сразу поняли — это они и есть. Не зря люди говорят, что эти башмачки сияют как-то по-особенному.
А теперь — собственно уловка: по всей видимости, адвокат, возвращавший башмачки, — тот же адвокат, который за много лет до этого был вовлечен в операцию по возвращению нескольких картин Нормана Рокуэлла, также украденных из одного из небольших музеев в Миненесоте (хотя воры, которые через несколько десятков лет поговорили с одним журналистом, говорили, что вообще-то шли за висевшей там же картиной Ренуара, а Рокуэлла захватили за компанию). То есть два топовых ограбления в США произошли в одном и том же штате. Все это очень подозрительно, но и только: по итогу полиция и ФБР продолжают расследование — и по-прежнему не знают, кто и зачем украл башмачки и бережно (правда бережно — по музейным стандартам) хранил их у себя много лет; как во многих хороших журналистских материалах, в этом остаются вопросы, ответа на которые мы попросту не знаем.
Чем же он тогда хорош, если и история не то чтобы сверхостросюжетная? А тем, что эту историю автор замечательно использует, чтобы свести вместе сразу несколько любопытных контекстов. Во-первых, это жизнь маленьких американских городов, для которых редкие местные достопримечательности — средство формирования идентичности, и подобное преступление неизбежно приводит к расколу маленького сообщества; личным конфликтами и трагедиям. Во-вторых, это история Джуди Гарленд, великой актрисы, которую Голливуд лишил детства и которая в итоге умерла от передозировки барбитуратов; причем как история самой Гарленд, так и история ее отношений с собственными провинциальными корнями.
В-третьих, это культура коллекционирования голливудской меморабилии — относительно молодая и поэтому полная комических сюжетов: в материале подробно рассказывается о людях, которые первыми придумали собирать артефакты из старых фильмов (до того студии их просто выкидывали или пускали на переработки), — и о том, как они выкупали их у владельцев по дешевке или просто находили на полутемных заброшенных складах-свалках. Время в наши дни бежит быстро, и сейчас все уже совсем по-другому — одна из четырех известных пар красных башмачков, использовавшихся на съемках «Волшебника», сейчас хранится в Национальном музее американской истории в Вашингтоне, и о том, как ее хранят, холят и охраняют, в тексте тоже много. Как и о том, почему эти чертовы башмачки так манят людей, почему они, собственно, превратились в культ и как так получилось, что на реставрацию пары из Национального музея несколько лет назад через краудфандинг собрали 300 тысяч долларов.
В 2005 году из небольшого дома-музея актрисы Джуди Гарленд в маленьком доме в штате Миннесота был похищен самый ценный экспонат — пара красных башмачков, которые героиня Гарленд носила в «Волшебнике страны Оз», одном из главных фильмов золотой эры Голливуда. Их нашли только спустя 13 лет — в деле сменилось несколько следователей, и каждый из них получал в свое распоряжение огромное количество папок, аудиозаписей и вещдоков, из которых упорно не складывалась какая-либо правдоподобная версия преступления. В полицию городка Гран-Рэпидс регулярно звонили люди, утверждавшие, что точно знают, где находятся башмачки; проверки обычно заканчивались тем, что где-то в захламленном чулане обнаруживались розовые босоножки, даже отдаленно не похожие на нужный экспонат.
И вот в июле 2017 года очередному следователю Брайану Мэттсону позвонил очередной информатор. Он представился посредником, который знал владельца башмачков — и мог поспособствовать их возвращению. Мэттсон мог бы проигнорировать звонившего — таких были уже десятки, — но почувствовал, что тут что-то более серьезное, и начал переговоры. Переговоры были долгими; в какой-то момент в них появился адвокат (со стороны посредника) и ФБР (со стороны расследования). В июле 2018 года все они поехали в Миннеаполис — и адвокат передал башмачки агентам, которые, видимо, заплатили ему за это вознаграждение (хотя я точно не понял). Когда коробку открыли, все сразу поняли — это они и есть. Не зря люди говорят, что эти башмачки сияют как-то по-особенному.
А теперь — собственно уловка: по всей видимости, адвокат, возвращавший башмачки, — тот же адвокат, который за много лет до этого был вовлечен в операцию по возвращению нескольких картин Нормана Рокуэлла, также украденных из одного из небольших музеев в Миненесоте (хотя воры, которые через несколько десятков лет поговорили с одним журналистом, говорили, что вообще-то шли за висевшей там же картиной Ренуара, а Рокуэлла захватили за компанию). То есть два топовых ограбления в США произошли в одном и том же штате. Все это очень подозрительно, но и только: по итогу полиция и ФБР продолжают расследование — и по-прежнему не знают, кто и зачем украл башмачки и бережно (правда бережно — по музейным стандартам) хранил их у себя много лет; как во многих хороших журналистских материалах, в этом остаются вопросы, ответа на которые мы попросту не знаем.
Чем же он тогда хорош, если и история не то чтобы сверхостросюжетная? А тем, что эту историю автор замечательно использует, чтобы свести вместе сразу несколько любопытных контекстов. Во-первых, это жизнь маленьких американских городов, для которых редкие местные достопримечательности — средство формирования идентичности, и подобное преступление неизбежно приводит к расколу маленького сообщества; личным конфликтами и трагедиям. Во-вторых, это история Джуди Гарленд, великой актрисы, которую Голливуд лишил детства и которая в итоге умерла от передозировки барбитуратов; причем как история самой Гарленд, так и история ее отношений с собственными провинциальными корнями.
В-третьих, это культура коллекционирования голливудской меморабилии — относительно молодая и поэтому полная комических сюжетов: в материале подробно рассказывается о людях, которые первыми придумали собирать артефакты из старых фильмов (до того студии их просто выкидывали или пускали на переработки), — и о том, как они выкупали их у владельцев по дешевке или просто находили на полутемных заброшенных складах-свалках. Время в наши дни бежит быстро, и сейчас все уже совсем по-другому — одна из четырех известных пар красных башмачков, использовавшихся на съемках «Волшебника», сейчас хранится в Национальном музее американской истории в Вашингтоне, и о том, как ее хранят, холят и охраняют, в тексте тоже много. Как и о том, почему эти чертовы башмачки так манят людей, почему они, собственно, превратились в культ и как так получилось, что на реставрацию пары из Национального музея несколько лет назад через краудфандинг собрали 300 тысяч долларов.
Против новостей
Последние 15 лет я так или иначе работал в медиа и профессионально существовал в режиме постоянного взаимодействия с новостями. Следил за ними, потому что это полагалось по работе, реагировал, старался делать это как можно более информированно и так далее; в общем, среда новостей была постоянной средой моего социального обитания.
Несколько месяцев назад все изменилось, и я оказался в реальности, в которой чтение новостей и коммуникация с ними — дополнение к основной деятельности, а не ее главное содержание. Эта перестройка неожиданно оказалась чрезвычайно внутренне сложной; за последнее время я потратил серьезное количество душевных и интеллектуальных усилий даже не столько на перестройку своих отношений с новостями и их обсуждением, сколько на выработку внутреннего убеждения в том, что эта перестройка легитимна. Что не иметь информированного мнения по поводу конфликта Любови Соболь с Нютой Федермессер или борьбы за церковь в Екатеринбурге, не высказываться по этому поводу и даже ничего про это не думать и не чувствовать — это нормально; что это не является аморальным и не ведет к социальной смерти. Честно говоря, я не скажу, что мне в полной мере удалось это внутреннее убеждение выработать; терзаюсь регулярно.
Проблема первого мира? Ну да, конечно, но реально — проблема. Социальные сети ведь не зря стоят, сколько стоят, и работают, как работают; одна из их бизнес-функций — вовлекать нас в постоянные обсуждения, чтобы мы проводили в этой среде как можно больше времени и взаимодействовали внутри нее; и сколько бы Марк Цукерберг ни говорил про то, что цель Facebook — повысить качество дружеских интеграций, по факту видно, что больше всего времени люди тратят в этом болоте, чтобы высказать мнение о текущих событиях и поругаться друг с другом на эту тему. Воздерживаться от таких высказываний при таком раскладе — очевидная угроза социальному статусу; особенно для людей с минимальной публичностью.
Это отдельно непросто в современной России, где магистральный лозунг главного, к сожалению, оппозиционного политика — про битву добра с нейтралитетом и где неучастие зачастую приравнивается к соучастию (ходили ли вы на бессмысленные гражданские акции, только чтобы избежать чувства вины? я — неоднократно). Впрочем, думаю, в США точно примерно то же самое, да и наверняка во всех примерно странах своя специфика с одинаково тяжелыми последствиями. Все это наверняка соединяется с мыслями Марка Фишера про капиталистический реализм и депрессию как социально-экономическую болезнь, но до этого мне еще предстоит добраться.
Последние 15 лет я так или иначе работал в медиа и профессионально существовал в режиме постоянного взаимодействия с новостями. Следил за ними, потому что это полагалось по работе, реагировал, старался делать это как можно более информированно и так далее; в общем, среда новостей была постоянной средой моего социального обитания.
Несколько месяцев назад все изменилось, и я оказался в реальности, в которой чтение новостей и коммуникация с ними — дополнение к основной деятельности, а не ее главное содержание. Эта перестройка неожиданно оказалась чрезвычайно внутренне сложной; за последнее время я потратил серьезное количество душевных и интеллектуальных усилий даже не столько на перестройку своих отношений с новостями и их обсуждением, сколько на выработку внутреннего убеждения в том, что эта перестройка легитимна. Что не иметь информированного мнения по поводу конфликта Любови Соболь с Нютой Федермессер или борьбы за церковь в Екатеринбурге, не высказываться по этому поводу и даже ничего про это не думать и не чувствовать — это нормально; что это не является аморальным и не ведет к социальной смерти. Честно говоря, я не скажу, что мне в полной мере удалось это внутреннее убеждение выработать; терзаюсь регулярно.
Проблема первого мира? Ну да, конечно, но реально — проблема. Социальные сети ведь не зря стоят, сколько стоят, и работают, как работают; одна из их бизнес-функций — вовлекать нас в постоянные обсуждения, чтобы мы проводили в этой среде как можно больше времени и взаимодействовали внутри нее; и сколько бы Марк Цукерберг ни говорил про то, что цель Facebook — повысить качество дружеских интеграций, по факту видно, что больше всего времени люди тратят в этом болоте, чтобы высказать мнение о текущих событиях и поругаться друг с другом на эту тему. Воздерживаться от таких высказываний при таком раскладе — очевидная угроза социальному статусу; особенно для людей с минимальной публичностью.
Это отдельно непросто в современной России, где магистральный лозунг главного, к сожалению, оппозиционного политика — про битву добра с нейтралитетом и где неучастие зачастую приравнивается к соучастию (ходили ли вы на бессмысленные гражданские акции, только чтобы избежать чувства вины? я — неоднократно). Впрочем, думаю, в США точно примерно то же самое, да и наверняка во всех примерно странах своя специфика с одинаково тяжелыми последствиями. Все это наверняка соединяется с мыслями Марка Фишера про капиталистический реализм и депрессию как социально-экономическую болезнь, но до этого мне еще предстоит добраться.