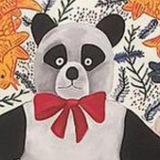Тексты Полины Еременко тут и так появлялись исправно — потому что это канал именно про такие тексты. Ужасно радостно, что теперь и я к ним имею какое-то отношение.
Forwarded from Медуза — LIVE (Aleksandr Gorbachev)
В России ежегодно проходят сотни конкурсов красоты: выбирают не только лучших девушек городов и регионов, но самых красивых среди беременных, пенсионеров и работниц индустрии блокчейна. Зачем все это нужно в эпоху инстаграма, когда есть способы капитализировать красоту и без походов по сцене в купальнике, ясно не до конца.
Наша новая спецкор Полина Еременко поговорила с десятками королев красоты и людей, организующих конкурсы, съездила на первое в истории мероприятие «Мисс Сыктывкар» — и открыла мир, полный удивительных персонажей: бывших владельцев похоронных агентств, американских продюсеров, мужчин, которые дают интервью вместо своих жен и так далее. Что важнее, этот текст, кажется, наглядно показывает существующую в России (особенно — за пределами столиц) гендерную пропасть: мужчины и женщины в индустрии конкурсов красоты как будто не видят друг друга. Первые воспринимают вторых как «рабочий материал», рассуждают о них как о товаре и как о лошадях, а себя видят своего рода художниками, мастерами красоты. А девушки относятся ко всему этому как к лифту даже не столько социальному, сколько психологическому; способу обрести уверенность и гендерную легитимность. Они без всякого энтузиазма принимают навязанные им правила игры, чтобы потом обернуть эту игру в свою пользу.
Если получится. А получается, конечно, не у всех.
https://meduza.io/feature/2018/01/12/devushki-eto-rabochiy-material?utm_source=telegram&utm_medium=live&utm_campaign=live
Наша новая спецкор Полина Еременко поговорила с десятками королев красоты и людей, организующих конкурсы, съездила на первое в истории мероприятие «Мисс Сыктывкар» — и открыла мир, полный удивительных персонажей: бывших владельцев похоронных агентств, американских продюсеров, мужчин, которые дают интервью вместо своих жен и так далее. Что важнее, этот текст, кажется, наглядно показывает существующую в России (особенно — за пределами столиц) гендерную пропасть: мужчины и женщины в индустрии конкурсов красоты как будто не видят друг друга. Первые воспринимают вторых как «рабочий материал», рассуждают о них как о товаре и как о лошадях, а себя видят своего рода художниками, мастерами красоты. А девушки относятся ко всему этому как к лифту даже не столько социальному, сколько психологическому; способу обрести уверенность и гендерную легитимность. Они без всякого энтузиазма принимают навязанные им правила игры, чтобы потом обернуть эту игру в свою пользу.
Если получится. А получается, конечно, не у всех.
https://meduza.io/feature/2018/01/12/devushki-eto-rabochiy-material?utm_source=telegram&utm_medium=live&utm_campaign=live
Meduza
Девушки — это рабочий материал
Ежегодно в России проходят сотни конкурсов красоты — в подавляющем большинстве среди девушек: выбирают самых красивых жительниц городов и работниц предприятий, представительниц профессий и поклонниц спортивных команд. Только некоторые из них включены в национальные…
В 2017 году на русский наконец перевели «Могилу Ленина» — этапную книгу журналиста Дэвида Ремника, после которой он получил Пулитцеровскую премию, а через несколько лет и стал главным редактором «Нью-Йоркера» (где теперь пишет великие и не очень тексты). Спасибо Перестройке и развалу Союза: счастлив, кто посетил сей мир в его минуты роковые; еще счастливее тот, кому пришлось о них писать статьи для The Washington Post, московским корреспондентом которого Ремник работал с 1988-го по 1992-й. Он, собственно, в книжке и сопутствующих материалах об этом счастье пишет — и дело не только в том, что мир радикально менялся на глазах, но и в том, что советские люди и официальные люди не вполне понимали правила, по которым этот мир существует; например, активно общались с журналистами без всяких оговорок и уловок.
«Могила Ленина» как раз и представляет хроники советских будней Ремника — перестройка, гласность, съезд народных депутатов, путч, распад СССР; Сахаров, Нина Андреева, Ельцин, Горбачев, провинциальные активисты и черносотенцы. Это, конечно, очень черно-белая книга — Ремника интересуют самые крайние проявления и без того радикализировавшейся реальности: от сталинистов до правозащитников без всякой middle ground, поэтому собственно позднесоветский политический процесс здесь нередко выглядит как борьба праведников со злодеями, обставленная соответствующей высокопарной риторикой и кошмарным бытоописанием с мусором, валяющимся на улицах, и прочими приметами упадка. С другой стороны, не стоит забывать, что книга писалась в 1993 году, когда многозначность эпохи и многогранность ее последствий еще была не столь очевидной — и для западного читателя, которому эти оттенки различать не так уж интересно. Кроме того, Ремнику уж точно не откажешь в чутье на людей: он, конечно, канонизирует Сахарова, но на того же Ельцина уже смотрит вполне прагматически и скептически; еще скептичнее — на деятелей вроде Михаила Леонтьева и Артема Боровика, которые тоже тут появляются. Наконец, автор чрезвычайно активно стремится понять другую сторону — дежурит под дверью 90-летнего Кагановича, встречается с Ниной Андреевой и с Гейдаром Алиевым, вообще показывает галерею не только советских, но и сугубо советских персонажей. Да, здесь нет «обычных» людей и их переживаний происходящего — но такой уж жанр; про обычных можно почитать у Юрчака.
«Могила Ленина» как раз и представляет хроники советских будней Ремника — перестройка, гласность, съезд народных депутатов, путч, распад СССР; Сахаров, Нина Андреева, Ельцин, Горбачев, провинциальные активисты и черносотенцы. Это, конечно, очень черно-белая книга — Ремника интересуют самые крайние проявления и без того радикализировавшейся реальности: от сталинистов до правозащитников без всякой middle ground, поэтому собственно позднесоветский политический процесс здесь нередко выглядит как борьба праведников со злодеями, обставленная соответствующей высокопарной риторикой и кошмарным бытоописанием с мусором, валяющимся на улицах, и прочими приметами упадка. С другой стороны, не стоит забывать, что книга писалась в 1993 году, когда многозначность эпохи и многогранность ее последствий еще была не столь очевидной — и для западного читателя, которому эти оттенки различать не так уж интересно. Кроме того, Ремнику уж точно не откажешь в чутье на людей: он, конечно, канонизирует Сахарова, но на того же Ельцина уже смотрит вполне прагматически и скептически; еще скептичнее — на деятелей вроде Михаила Леонтьева и Артема Боровика, которые тоже тут появляются. Наконец, автор чрезвычайно активно стремится понять другую сторону — дежурит под дверью 90-летнего Кагановича, встречается с Ниной Андреевой и с Гейдаром Алиевым, вообще показывает галерею не только советских, но и сугубо советских персонажей. Да, здесь нет «обычных» людей и их переживаний происходящего — но такой уж жанр; про обычных можно почитать у Юрчака.
Для 2017-го «Могила Ленина» важна не только тем, что всеобъемлюще описывает эпоху, — Ремник успевает и поездить по окраинам советской империи, и подробно рассказать совершенно забытый сейчас сюжет про первые свободные московские муниципальные выборы и попытки провести реформы в одном отдельно взятом районе Москвы (Октябрьском; ведущими демократом там выступаем Илья Заславский, нынешний замминистра ЖКХ). Важна она еще и своей сквозной темой. Это тема исторической памяти, ее сохранения, восстановления — или осознанного забытья. Книга начинается с раскопок в Катыни, там есть и Новочеркасск, и «Мемориал», и вообще всю историю радикальных перемен в СССР Ремник описывает как прежде всего историю обретения памяти, после которого жить, как прежде, уже невозможно. Для России 2017-го года, где главными текстами и в журналистике, и в литературе оказываются тексты именно про обретение и осмысление памяти, это очень полезная рифма.
Вообще, вот пишу это спустя несколько месяцев после того, как прочитал книгу, и понимаю, что по горячим следам написал бы, конечно, куда более агрессивно — все-таки, когда все устаканилось в голове, раздражение во многом прошло, а польза осталась. Тем более что удалось высказать некоторые недоумения самому автору — мое интервью с Ремником по поводу книжки можно прочитать тут. А отрывок из «Могилы Ленина» про Кашпировского и Чумака — говорю же, книга довольно всеобъемлющая — тут.
В интернете «Могилы Ленина» нет ни в каком виде, кроме англоязычного оригинала (и это полная шиза, конечно).
Вообще, вот пишу это спустя несколько месяцев после того, как прочитал книгу, и понимаю, что по горячим следам написал бы, конечно, куда более агрессивно — все-таки, когда все устаканилось в голове, раздражение во многом прошло, а польза осталась. Тем более что удалось высказать некоторые недоумения самому автору — мое интервью с Ремником по поводу книжки можно прочитать тут. А отрывок из «Могилы Ленина» про Кашпировского и Чумака — говорю же, книга довольно всеобъемлющая — тут.
В интернете «Могилы Ленина» нет ни в каком виде, кроме англоязычного оригинала (и это полная шиза, конечно).
Meduza
«Ельцин заключил сделку с дьяволом, которую потом использовал Путин»
В издательстве Corpus вышла «Могила Ленина» — первая книга журналиста Дэвида Ремника, написанная им в 1993 году и посвященная советской перестройке, во время которой он жил в Москве и работал корреспондентом газеты The Washington Post. За «Могилу Ленина»…
Поправка! Пост писал неделю назад, тогда «Могилы Ленина» на «Литресе» не было в наличии. А теперь есть! Спасибо бдительным читателям.
https://www.litres.ru/devid-remnik/mogila-lenina-poslednie-dni-sovetskoy-imperii/
https://www.litres.ru/devid-remnik/mogila-lenina-poslednie-dni-sovetskoy-imperii/
ЛитРес
Могила Ленина. Последние дни советской империи – Дэвид Ремник
“Последнему поколению иностранных журналистов в СССР повезло больше предшественников, – пишет Дэвид Ремник в книге “Могила Ленина” (1993 г.). – Мы стали свидетелями триумфальных событий в веке, полном трагедий. Более того, мы…
Пересказ разом текста в NY Mag за 2015 год, новейшего текста в издании Hazlitt и документального фильма (не очень удачного) «Beware the Slenderman» на HBO.
Заманчиво, конечно, было бы провести аналогию с делом «синих китов», поскольку тут тоже история про то, как интернет якобы довел детей до чудовищного, но она будет не вполне точной. Скорее история про дело Слендермена впечатляет тем, как в ней переплелись сразу несколько ключевых болевых точек американского общества: и про отчуждение детей в интернете; и про проблемы с психиатрической помощью; и про жестокость правосудия, которое готово относиться к детям как к взрослым — и для которой после преступления есть только наказание, но не исправление.
https://meduza.io/feature/2018/01/14/beregis-slendermena
Заманчиво, конечно, было бы провести аналогию с делом «синих китов», поскольку тут тоже история про то, как интернет якобы довел детей до чудовищного, но она будет не вполне точной. Скорее история про дело Слендермена впечатляет тем, как в ней переплелись сразу несколько ключевых болевых точек американского общества: и про отчуждение детей в интернете; и про проблемы с психиатрической помощью; и про жестокость правосудия, которое готово относиться к детям как к взрослым — и для которой после преступления есть только наказание, но не исправление.
https://meduza.io/feature/2018/01/14/beregis-slendermena
Meduza
Берегись Слендермена
В 2014 году вся Америка обсуждала жуткое преступление в штате Висконсин: две 12-летние девочки, вдохновившись интернет-фольклором про персонажа по имени Слендермен, попытались убить свою подругу, нанеся ей 19 ножевых ранений. В январе 2018 года издание Hazlitt…
Роман Алексея Сальникова «Петровы в гриппе и вокруг него» последние пару месяцев передают по виртуальным рукам, как несколько лет назад передавали великую книжку «Ложится мгла на старые ступени» Александра Чудакова: то один хороший человек напишет и восхитится, то другой. Великой книжкой «Петровых» я бы все-таки пока не назвал — но внимания она точно заслуживает; во всяком случае, это редкое художественное произведение, про которое хочется еще и написать здесь.
Конечно, надо сказать базовые вещи. Это очень хорошо и очень по-своему написано; я уже писал тут как-то, что дельную художественную вещь всегда видно по первой фразе, и «Петровы» — как раз тот случай. «Стоило только Петрову поехать на троллейбусе, и сразу же возникали безумцы и начинали приставать к Петрову», — вот такое обманчиво простое, обаятельно абсурдистское, слегка изломанное, трогательно избыточное, по-хорошему неловкое письмо доминирует во всем романе, местами достигая изрядных высот и по части комизма, и по части точности. Люди любят, когда литература ловит какие-то вещи, «как в жизни», и Сальников умеет это делать с мелкими, но важными ощущениями. Например: «Вообще, у Петрова возникало ощущение, что родители растили его только для того, чтобы он зачал им внука, если бы внука можно было получить как-нибудь опосредованно, избегнув возни с самим Петровым, – родители бы с удовольствием последовали этому рецепту».
С какой-то точки зрения хватило бы и этого — и где-то до экватора романа кажется, что больше тут ничего и нет: остроумно сочиненная черная комедия из жизни обычно-необычной екатеринбургской семьи с периодическими отходами в сюрреализм и очень ловкой композицией, которая в итоге собирается, как трехмерный паззл. Во второй половине, однако, — особенно после пятой главы, про юность Петрова и его друга Сергея, безусловно лучшей во всем романе, — начинает складываться и некий надсюжетный важный смысл. Смысл этот, кажется, примерно вот в чем. В российской публицистике 2000-х было распространено слово «хтонь»; кажется, как и многие другие, его крепко ввел в оборот Юрий Сапрыкин вот в этой своей колонке. Из нее следует, что хтонь — это «темная, подземная, иррациональная сила, управляющая жизнью страны», но в современном русском смысл быстро вымывается, и мне кажется, что употребляли его (и я сам, брат, из этих) в качестве такого интеллигентного синонима слову «быдло»; для обозначения неких «простых» людей и их потайной и жуткой жизни, одним из проявлений которой является невольное, но несокрушимое обеспечение легитимности действующего русского государства.
Так вот, «Петровы» — это в каком-то смысле роман про эту самую хтонь, только эта самая сила тут, да, иррациональная, но в каком-то странном, абсурдистском опять же смысле светлая и вполне себе земная. Герои «Петровы» — автослесарь, библиотекарша и их круг общения — те самые «простые» люди, которые тут выписаны без малейшей снисходительности; при том, что это в целом удивительный и удивляющийся текст, он нисколько не подвергает сомнению легитимность своих героев (в отличие от них самих, то и дело предающихся размышлениям о своей обыденности). И напротив: Сальников умеет увидеть красоту этой самой иррациональности; тайную энергию этой самой хтони; какую-то подспудную глубину. Все это, наверное, пошловато звучит, но это потому что я не умею толком доформулировать — Сальников все делает очень тонко, и «Петровы» получаются одновременно похожими и на Мамлеева с его лезущей изо всех щелей родимой жутью, и на Иванова с его умением увидеть литературу в российской обыденности. Если угодно, «Петровы» — это роман, гуманизирующий слякоть. Нужная штука.
Bookmate | Litres
Конечно, надо сказать базовые вещи. Это очень хорошо и очень по-своему написано; я уже писал тут как-то, что дельную художественную вещь всегда видно по первой фразе, и «Петровы» — как раз тот случай. «Стоило только Петрову поехать на троллейбусе, и сразу же возникали безумцы и начинали приставать к Петрову», — вот такое обманчиво простое, обаятельно абсурдистское, слегка изломанное, трогательно избыточное, по-хорошему неловкое письмо доминирует во всем романе, местами достигая изрядных высот и по части комизма, и по части точности. Люди любят, когда литература ловит какие-то вещи, «как в жизни», и Сальников умеет это делать с мелкими, но важными ощущениями. Например: «Вообще, у Петрова возникало ощущение, что родители растили его только для того, чтобы он зачал им внука, если бы внука можно было получить как-нибудь опосредованно, избегнув возни с самим Петровым, – родители бы с удовольствием последовали этому рецепту».
С какой-то точки зрения хватило бы и этого — и где-то до экватора романа кажется, что больше тут ничего и нет: остроумно сочиненная черная комедия из жизни обычно-необычной екатеринбургской семьи с периодическими отходами в сюрреализм и очень ловкой композицией, которая в итоге собирается, как трехмерный паззл. Во второй половине, однако, — особенно после пятой главы, про юность Петрова и его друга Сергея, безусловно лучшей во всем романе, — начинает складываться и некий надсюжетный важный смысл. Смысл этот, кажется, примерно вот в чем. В российской публицистике 2000-х было распространено слово «хтонь»; кажется, как и многие другие, его крепко ввел в оборот Юрий Сапрыкин вот в этой своей колонке. Из нее следует, что хтонь — это «темная, подземная, иррациональная сила, управляющая жизнью страны», но в современном русском смысл быстро вымывается, и мне кажется, что употребляли его (и я сам, брат, из этих) в качестве такого интеллигентного синонима слову «быдло»; для обозначения неких «простых» людей и их потайной и жуткой жизни, одним из проявлений которой является невольное, но несокрушимое обеспечение легитимности действующего русского государства.
Так вот, «Петровы» — это в каком-то смысле роман про эту самую хтонь, только эта самая сила тут, да, иррациональная, но в каком-то странном, абсурдистском опять же смысле светлая и вполне себе земная. Герои «Петровы» — автослесарь, библиотекарша и их круг общения — те самые «простые» люди, которые тут выписаны без малейшей снисходительности; при том, что это в целом удивительный и удивляющийся текст, он нисколько не подвергает сомнению легитимность своих героев (в отличие от них самих, то и дело предающихся размышлениям о своей обыденности). И напротив: Сальников умеет увидеть красоту этой самой иррациональности; тайную энергию этой самой хтони; какую-то подспудную глубину. Все это, наверное, пошловато звучит, но это потому что я не умею толком доформулировать — Сальников все делает очень тонко, и «Петровы» получаются одновременно похожими и на Мамлеева с его лезущей изо всех щелей родимой жутью, и на Иванова с его умением увидеть литературу в российской обыденности. Если угодно, «Петровы» — это роман, гуманизирующий слякоть. Нужная штука.
Bookmate | Litres
Bookmate
Read “Петровы в гриппе и вокруг него”. Алексей Сальников on Bookmate
Read “Петровы в гриппе и вокруг него”, by Алексей Сальников online on Bookmate – Алексей Сальников родился в 1978 году в Тарту. Публиковался в альманахе «Вавилон», журналах «Воздух», «Урал», «Волга». …
Очень люблю такие истории — про какие-то парадоксальные личные помешательства.
Forwarded from Медуза — LIVE (Aleksandr Gorbachev)
Предположим, вы десять с лишним лет производили ракетно-зенитные установки и прочие смертоносные орудия для российского государства. Чем заняться после отставки?
Ответ прост: конечно, основать собственное королевство в космосе!
Во всяком случае, именно так поступил бывший гендиректор концерта «Алмаз-Антей» Игорь Ашурбейли. В его самопровозглашенном государстве Асгардия уже больше 150 тысяч граждан; он всерьез намерен сделать Асгардию членом ООН — а еще собирается колонизировать Луну и держит в своем кабинете скелет, чтобы показать свою прозрачность.
Большой репортаж Таисии Бекбулатовой об удивительном мире бывшего российского госслужащего.
https://meduza.io/feature/2018/01/17/kosmicheskoe-korolevstvo-asgardiya?utm_source=telegram&utm_medium=live&utm_campaign=live
Ответ прост: конечно, основать собственное королевство в космосе!
Во всяком случае, именно так поступил бывший гендиректор концерта «Алмаз-Антей» Игорь Ашурбейли. В его самопровозглашенном государстве Асгардия уже больше 150 тысяч граждан; он всерьез намерен сделать Асгардию членом ООН — а еще собирается колонизировать Луну и держит в своем кабинете скелет, чтобы показать свою прозрачность.
Большой репортаж Таисии Бекбулатовой об удивительном мире бывшего российского госслужащего.
https://meduza.io/feature/2018/01/17/kosmicheskoe-korolevstvo-asgardiya?utm_source=telegram&utm_medium=live&utm_campaign=live
Meduza
Космическое королевство Асгардия
В 2000-х Игорь Ашурбейли был главой «Алмаз-Антея» — одного из крупнейших российских оборонных концернов, который принадлежит государству и производит ракетные установки, системы противовоздушной обороны, радиолокационные станции и другое военное оборудование.…
Книга «Егор Летов. Оффлайн», по идее, — чисто фанатское чтение: ну подумаешь, собрали вместе ответы лидера «Гражданской обороны» на вопросы поклонников, которые регулярно публиковались на сайте группы, чего там.
С одной стороны, это так и есть; пересказывать тут уж точно нечего: Летов рассказывает о любимых книгах, фильмах, альбомах и котах; вспоминает эпизоды своей жизни и подробности своих записей; дезавуирует слухи; последовательно отстаивает право противоречить самому себе. С другой стороны, в общем корпусе летовского наследия «Оффлайн» — все-таки важная штука. В силу ряда причин единственной, по сути, книгой, так или иначе фиксировавшей труды и дни «Гражданской обороны», до последнего время оставалась «Я не верю в анархию» — сборник интервью Летова и журналистских заметок о нем, впервые вышедший где-то в середине 1990-х и с тех пор периодически дополнявшийся. Сборник этот, несмотря на свою полную самопальность, очень впечатляющий — и он, конечно, целиком и полностью посвящен фиксации летовского мифа. От заметок поклонников, разочаровавшихся в «Обороне» после «Русского прорыва» и НБП, до программных интервью, которые Летов брал у самого себя, и «ГРОБ-хроник» — все это создает именно ту грандиозную, радикальную, торжественную, по-хорошему зловещую картину Летова-творца, визуальным воплощением которой является фигурирующий на обложке классический портрет в черных очках на фоне колючей проволоки.
«Оффлайн» в этом смысле делает важную работу — эти интервью миф очеловечивают, нисколько при этом не снижая его размаха, накала и глубины. В этих вполне будничных разговорах со своими слушателями Летов оказывается вполне доступным, умным, но нисколько не надменным, чрезвычайно образованным, но нисколько не снобским собеседником. Вкупе с черновиками и всякими домашними фотографиями, появившимися и изданными после смерти Летова, это мощно углубляет и обогащает его фигуру; в каком-то смысле так впечатление от собственно творчества оказывается даже более величественным — потому что возникает еще и на контрасте со всей этой повседневной обыденностью, в которой парадоксальным образом нет ничего обывательского.
Удивительно: вообще-то обычно после смерти с рок-звездами происходит ровно обратное — миф окончательно канонизируется; живой человек превращается в образ, в памятник. Летов и тут всех переиграл.
(Книга издана издательством «Выргород»; интервью с ней снабжены примечаниями Натальи Чумаковой; в интернете ее, конечно, нет. Исходный текст вопросов-ответов можно найти по ссылке.)
http://www.gr-oborona.ru/pub/offline/1207563484.html
С одной стороны, это так и есть; пересказывать тут уж точно нечего: Летов рассказывает о любимых книгах, фильмах, альбомах и котах; вспоминает эпизоды своей жизни и подробности своих записей; дезавуирует слухи; последовательно отстаивает право противоречить самому себе. С другой стороны, в общем корпусе летовского наследия «Оффлайн» — все-таки важная штука. В силу ряда причин единственной, по сути, книгой, так или иначе фиксировавшей труды и дни «Гражданской обороны», до последнего время оставалась «Я не верю в анархию» — сборник интервью Летова и журналистских заметок о нем, впервые вышедший где-то в середине 1990-х и с тех пор периодически дополнявшийся. Сборник этот, несмотря на свою полную самопальность, очень впечатляющий — и он, конечно, целиком и полностью посвящен фиксации летовского мифа. От заметок поклонников, разочаровавшихся в «Обороне» после «Русского прорыва» и НБП, до программных интервью, которые Летов брал у самого себя, и «ГРОБ-хроник» — все это создает именно ту грандиозную, радикальную, торжественную, по-хорошему зловещую картину Летова-творца, визуальным воплощением которой является фигурирующий на обложке классический портрет в черных очках на фоне колючей проволоки.
«Оффлайн» в этом смысле делает важную работу — эти интервью миф очеловечивают, нисколько при этом не снижая его размаха, накала и глубины. В этих вполне будничных разговорах со своими слушателями Летов оказывается вполне доступным, умным, но нисколько не надменным, чрезвычайно образованным, но нисколько не снобским собеседником. Вкупе с черновиками и всякими домашними фотографиями, появившимися и изданными после смерти Летова, это мощно углубляет и обогащает его фигуру; в каком-то смысле так впечатление от собственно творчества оказывается даже более величественным — потому что возникает еще и на контрасте со всей этой повседневной обыденностью, в которой парадоксальным образом нет ничего обывательского.
Удивительно: вообще-то обычно после смерти с рок-звездами происходит ровно обратное — миф окончательно канонизируется; живой человек превращается в образ, в памятник. Летов и тут всех переиграл.
(Книга издана издательством «Выргород»; интервью с ней снабжены примечаниями Натальи Чумаковой; в интернете ее, конечно, нет. Исходный текст вопросов-ответов можно найти по ссылке.)
http://www.gr-oborona.ru/pub/offline/1207563484.html
Нам удобно мыслить бинарно — особенно применительно к объектам, которые такого подхода вроде как и заслуживают. Вот сталинский террор 1930-х: кажется разумным осмыслять его терминах государство против частного человека; в логике подавления личной воли; в эмоции страха и так далее. И конечно, это легитимно. С другой стороны, остается вопрос: как это вообще возможно — подавить личную волю десятков и сотен миллионов людей; насколько уместна тут парадигма именно противостояния личности и государства? Важная книга для этих размышлений — «Революция от первого лица» Йохена Хелльбека, где он анализирует личные дневники людей, живших в сталинскую эпоху (самых разных — от интеллигентов и творческой элиты до выдвиженцев и раскулаченных), и приходит к сколь неожиданному, столь и убедительному выводу: либеральная концепция разграничения приватного и публичного, жизни частной и коллективной, индивидуальной и общественной не вполне соответствует тому, как видел мир советский человек — именно поэтому понимание сталинской эпохи в русле этой либеральной концепции выявляет столько неразрешимых противоречий.
Подробно анализируя четыре дневника и подтягивая в качестве контекста многие другие, Хелльбек показывает напряженную, болезненную и мучительную внутреннюю работу людей, которые хотели именно что преодолеть приватность, буржуазность и прочие вещи, делегитимизированные советской властью, слиться с коллективом, превратиться в «новых людей», лишенных мелкобуржуазных сомнений и чувств. Это для большинства современных читателей идея стать винтиком в государственном машине кажется чем-то заведомо негативным — у людей, переживших революцию и живших с революцией, показывает Хелльбек, это могло работать и зачастую работало по-другому; увидев стремительные и тектонические преображения в обществе, в коллективном «мы», они считали необходимым провести аналогичные процедуры с индивидуальным «я» — и бесконечно корили себя, когда это не удавалось; дневник тут выступал именно что инструментом саморазвития — либо покаяния. В каком-то смысле «Революция от первого лица» объясняет, кто написал те самые четыре миллиона доносов, — а точнее, почему они были написаны.
При этом: я, конечно, совсем не специалист и не настолько владею всем тем терминологическим и методологическим аппаратом, которым пользуется Хелльбек, но какие-то вопросы все-таки возникают и у меня. Например, тут замечательно показано, как авторы дневников внедряют в себя советский новый язык; как они разговаривают на нем с самим собой (а ведь нам сейчас кажется, что этот язык мертвый, пустой; ну тут см., опять же, Юрчака) — но при этом как будто недоучтено влияние всяких других дискурсов на ведущих дневников; ведь дневник, как ни крути, — очень отдельный жанр с собственной памятью письма и собственными динамическими канонами, которые неизбежно определяют содержание написанного. Вообще, при том, что Хелльбек неодобрительно отзывается о понятии «искренность», есть ощущение, что он обходит перформативность, свойственную любому дневнику по определению; допустим, он более-менее убедительно показывает, что они не велись для следователей НКВД, но ведь любой дневник все равно подразумевает какого-то читателя — и этот адресат на дневник неизбежно влияет.
Разумеется, что это не тот случай, когда возникающие вопросы как-либо дезавуируют ценность исследования — и даже наоборот. «Революция от первого лица» ужасно интересно и даже, пожалуй, провокативно демонстрирует, что «советский человек» — это не вполне фикция, что советская идеология действительно зримо меняла человеческую психологию и самосознание. Грубо говоря, эта книга доказывает, что даже в сталинистском тоталитарном мраке можно обнаружить свидетельства потрясающего многообразия мира людей — и потрясающей силы мира идей.
Подробно анализируя четыре дневника и подтягивая в качестве контекста многие другие, Хелльбек показывает напряженную, болезненную и мучительную внутреннюю работу людей, которые хотели именно что преодолеть приватность, буржуазность и прочие вещи, делегитимизированные советской властью, слиться с коллективом, превратиться в «новых людей», лишенных мелкобуржуазных сомнений и чувств. Это для большинства современных читателей идея стать винтиком в государственном машине кажется чем-то заведомо негативным — у людей, переживших революцию и живших с революцией, показывает Хелльбек, это могло работать и зачастую работало по-другому; увидев стремительные и тектонические преображения в обществе, в коллективном «мы», они считали необходимым провести аналогичные процедуры с индивидуальным «я» — и бесконечно корили себя, когда это не удавалось; дневник тут выступал именно что инструментом саморазвития — либо покаяния. В каком-то смысле «Революция от первого лица» объясняет, кто написал те самые четыре миллиона доносов, — а точнее, почему они были написаны.
При этом: я, конечно, совсем не специалист и не настолько владею всем тем терминологическим и методологическим аппаратом, которым пользуется Хелльбек, но какие-то вопросы все-таки возникают и у меня. Например, тут замечательно показано, как авторы дневников внедряют в себя советский новый язык; как они разговаривают на нем с самим собой (а ведь нам сейчас кажется, что этот язык мертвый, пустой; ну тут см., опять же, Юрчака) — но при этом как будто недоучтено влияние всяких других дискурсов на ведущих дневников; ведь дневник, как ни крути, — очень отдельный жанр с собственной памятью письма и собственными динамическими канонами, которые неизбежно определяют содержание написанного. Вообще, при том, что Хелльбек неодобрительно отзывается о понятии «искренность», есть ощущение, что он обходит перформативность, свойственную любому дневнику по определению; допустим, он более-менее убедительно показывает, что они не велись для следователей НКВД, но ведь любой дневник все равно подразумевает какого-то читателя — и этот адресат на дневник неизбежно влияет.
Разумеется, что это не тот случай, когда возникающие вопросы как-либо дезавуируют ценность исследования — и даже наоборот. «Революция от первого лица» ужасно интересно и даже, пожалуй, провокативно демонстрирует, что «советский человек» — это не вполне фикция, что советская идеология действительно зримо меняла человеческую психологию и самосознание. Грубо говоря, эта книга доказывает, что даже в сталинистском тоталитарном мраке можно обнаружить свидетельства потрясающего многообразия мира людей — и потрясающей силы мира идей.
Forwarded from Медуза — LIVE (Aleksandr Gorbachev)
Пару недель назад спецкор Илья Жегулев спросил у спецкора Полины Еременко, про что она сейчас делает материал. Полина ответила: «Про надпись на заборе».
И действительно — этот текст ровно об этом. Точнее — про десятки и сотни похожих надписей на заборе, которые покрывали всю Одессу в начале 1980-х. «Клара Будиловская — проститутка», — гласили они. Весь город, включая сотни тысяч отдыхающих, обсуждал Клару, но никто не знал, кто она такая и чем насолила обидчику: то ли не поставила студентам зачет, то ли не ответила на притязания мужчины. Клара Будиловская превратилась в городской миф; в позднюю брежневскую эпоху она стала главной историей в жизни Одессы, где, в общем, мало что происходило и менялось; через пару десятков лет про нее стали делать инсталляции современные художники; но о судьбе самой Клары так никто ничего и не знал.
35 лет спустя Полина Еременко решила найти Клару — если, конечно, она вообще когда-нибудь существовала. Получился детектив о любви; история одновременно вечная и современная (в конце концов, сейчас такое бы назвали сталкингом); и, возможно, самое трогательное журналистское расследование, которое вы когда-либо читали.
https://meduza.io/feature/2018/02/02/on-lyubil-a-ona-otkazala?utm_source=telegram&utm_medium=live&utm_campaign=live
И действительно — этот текст ровно об этом. Точнее — про десятки и сотни похожих надписей на заборе, которые покрывали всю Одессу в начале 1980-х. «Клара Будиловская — проститутка», — гласили они. Весь город, включая сотни тысяч отдыхающих, обсуждал Клару, но никто не знал, кто она такая и чем насолила обидчику: то ли не поставила студентам зачет, то ли не ответила на притязания мужчины. Клара Будиловская превратилась в городской миф; в позднюю брежневскую эпоху она стала главной историей в жизни Одессы, где, в общем, мало что происходило и менялось; через пару десятков лет про нее стали делать инсталляции современные художники; но о судьбе самой Клары так никто ничего и не знал.
35 лет спустя Полина Еременко решила найти Клару — если, конечно, она вообще когда-нибудь существовала. Получился детектив о любви; история одновременно вечная и современная (в конце концов, сейчас такое бы назвали сталкингом); и, возможно, самое трогательное журналистское расследование, которое вы когда-либо читали.
https://meduza.io/feature/2018/02/02/on-lyubil-a-ona-otkazala?utm_source=telegram&utm_medium=live&utm_campaign=live
Meduza
Он любил, а она отказала
В любом постсоветском городе — да и не только в них — существуют загадочные надписи на улицах и стенах, и порой за ними скрываются захватывающие личные истории. Есть и особо удивительные случаи; возможно, самый известный из них произошел в Одессе: в конце…
В некотором смысле исторический момент: впервые тут появляется текст, написанный моим студентом (я веду курс «Основы нарративной журналистики» на четвертом курсе факультета Liberal Arts в РАНХиГС). Помните удивительный материал в The Guardian про то, как разные люди разрабатывают секс-куклы нового поколения — роботов, которые разве что борщ не готовят? Там отчасти был затронут вопрос, кто такую продукцию покупает, — но только по касательной. Тут он освещается по полной — да еще с российским колоритом.
Тимофей Тарасенко нашел москвича, который покупает секс-кукол — и который подробно рассказал ему, что с ними делает и почему это интересно. Это очень смешной текст — как-то по-зощенковски смешной; но важно, что тут нет насмешки или издевки над героем — это скорее история про то, какими неожиданными путями, бывает, ходит человеческое желание. И еще тот случай, когда по первой фразе сразу понятно, что будет захватывающе: «Интимная зона девушки Сергея пахла шпротами».
https://batenka.ru/resource/sexy/my-toy/
Тимофей Тарасенко нашел москвича, который покупает секс-кукол — и который подробно рассказал ему, что с ними делает и почему это интересно. Это очень смешной текст — как-то по-зощенковски смешной; но важно, что тут нет насмешки или издевки над героем — это скорее история про то, какими неожиданными путями, бывает, ходит человеческое желание. И еще тот случай, когда по первой фразе сразу понятно, что будет захватывающе: «Интимная зона девушки Сергея пахла шпротами».
https://batenka.ru/resource/sexy/my-toy/
Батенька, да вы трансформер
«Мнёшь её, шлёпаешь — она аж попискивает»
Как устроен рынок секс-кукол в России и кто становится его клиентом
В середине 1970-х красивая американка Джойс Маккини, бывшая победительница конкурсов красоты, познакомилась в Солт-Лейк-Сити с чопорным мормоном Кирком Андерсоном — и без памяти в него влюбилась. Она утверждает, что они уже строили совместные планы на жизнь, когда Андерсон пропал — как заподозрила девушка, родственники и коллеги по религии решили сорвать их счастливое будущее. Маккини, впрочем, не была готова просто сдаться. Она отправилась в Лос-Анджелес, чтобы заработать денег на поиски любимого. Заработала — и нашла его в Англии, где тот проходил какое-то обучение в мормонской церкви в Суррее. Тогда Маккини наняла двух телохранителей, взяла с собой лучшего друга — и они полетели в Англию спасть ее любовь.
По дороге, правда, оба телохранителя отвалились — одного задержали на таможне, другой просто передумал, когда понял, что дело пахнет уголовкой. Дальше было так: Маккини с другом приехали в Суррей; там она подловила Андерсона на ступеньках мормонской церкви; то ли отключила его хлороформом, то ли он пошел сам — в общем, через некоторое время они оказались в коттедже к Девоне, где девушка привязала Кирка к кровати и два дня занималась с ним сексом против его желания. Такова, во всяком случае, была версия молодого человека, который в итоге сбежал и вернулся к единоверцам. Маккини утверждала, что секс происходил по обоюдному согласию, а потом мормоны опять одурманили его возлюбленного.
Ей поймали и хотели судить; она все отрицала — а потом сбежала из страны в Америку. Эта история стала главным сюжетом британских таблоидов в 1977 году — кейс «мормона в цепях» обсуждала буквально вся страна; многие не верили, что женщина вообще может изнасиловать мужчину, а в британском уголовном кодексе не обнаружилось соответствующей статьи. The Daily Express писала об истории Маккини как о любовной драме; The Daily Mirror нарыла, что в Лос-Анджелесе девушка зарабатывала на жизнь, фотографируясь голой и предлагая сомнительные услуги; The Daily Mail рекламировала себя как «единственная газета, в которой нет Джойс Маккини».
А в 2010-м году великий Эррол Моррис (это тот, который «Wormwood» и прочее) снял про эту поразительную историю фильм «Таблоид». Интересен он не только тем, что рассказывает сам сюжет, — но и тем, что в исполнении Морриса он становится исследованием современной западной медиакультуры; тому, как этот кейс отрабатывали журналисты, здесь посвящено едва ли не больше времени, чем собственно похищению (собственно, парадоксальную гендерную проблематику истории с изнасилованием Моррис почти и не рассматривает). Пользуясь, как ему свойственно, довольно аскетичным инструментарием — несколько интервью, архивные съемки, всякие визуальные фокусы, умелые центоны из поп-культуры, — Моррис фактически показывает, как главная героиня сама становится одновременно героиней и жертвой медиа; действует в логике первой полосы таблоида — и страдает от этого. Любовь зла; человек, который пишет о ней передовицу, еще злее.
По дороге, правда, оба телохранителя отвалились — одного задержали на таможне, другой просто передумал, когда понял, что дело пахнет уголовкой. Дальше было так: Маккини с другом приехали в Суррей; там она подловила Андерсона на ступеньках мормонской церкви; то ли отключила его хлороформом, то ли он пошел сам — в общем, через некоторое время они оказались в коттедже к Девоне, где девушка привязала Кирка к кровати и два дня занималась с ним сексом против его желания. Такова, во всяком случае, была версия молодого человека, который в итоге сбежал и вернулся к единоверцам. Маккини утверждала, что секс происходил по обоюдному согласию, а потом мормоны опять одурманили его возлюбленного.
Ей поймали и хотели судить; она все отрицала — а потом сбежала из страны в Америку. Эта история стала главным сюжетом британских таблоидов в 1977 году — кейс «мормона в цепях» обсуждала буквально вся страна; многие не верили, что женщина вообще может изнасиловать мужчину, а в британском уголовном кодексе не обнаружилось соответствующей статьи. The Daily Express писала об истории Маккини как о любовной драме; The Daily Mirror нарыла, что в Лос-Анджелесе девушка зарабатывала на жизнь, фотографируясь голой и предлагая сомнительные услуги; The Daily Mail рекламировала себя как «единственная газета, в которой нет Джойс Маккини».
А в 2010-м году великий Эррол Моррис (это тот, который «Wormwood» и прочее) снял про эту поразительную историю фильм «Таблоид». Интересен он не только тем, что рассказывает сам сюжет, — но и тем, что в исполнении Морриса он становится исследованием современной западной медиакультуры; тому, как этот кейс отрабатывали журналисты, здесь посвящено едва ли не больше времени, чем собственно похищению (собственно, парадоксальную гендерную проблематику истории с изнасилованием Моррис почти и не рассматривает). Пользуясь, как ему свойственно, довольно аскетичным инструментарием — несколько интервью, архивные съемки, всякие визуальные фокусы, умелые центоны из поп-культуры, — Моррис фактически показывает, как главная героиня сама становится одновременно героиней и жертвой медиа; действует в логике первой полосы таблоида — и страдает от этого. Любовь зла; человек, который пишет о ней передовицу, еще злее.
Ничего не успеваю тут писать катастрофически — хотя за последнее время даже сделал несколько пересказов для «Медузы». Но вот про самое важное.
Forwarded from Медуза — LIVE (Meduza)
10 лет назад, 19 февраля 2008 года, у себя дома в Омске умер лидер «Гражданской обороны» Егор Летов. У нас сегодня несколько материалов о нем. Слово редактору Александру Горбачеву:
Я очень хорошо помню день, когда умер Летов, — точнее, хорошо помню, что помню его плохо. Я сидел в редакции журнала «Афиша», где тогда работал, и собирался идти в кино; вдруг меня отозвал Юра Сапрыкин, который тоже там тогда работал, и сказал, что умер Летов. Далее наступил какой-то туман. Я почему-то на автомате все равно пошел в кино — режиссер Филипп Гаррель у меня с тех пор намертво с Летовым ассоциируется, хотя из фильма я не помню ни кадра. Потом так же на автомате пошел домой. Было ощущение какого-то ступора — как такое вообще возможно, это же Летов?! Кажется, это примерно единственный случай, когда я плакал из-за смерти человека, которого не знал лично.
Музыка Егора Летова меняла людей, и это не фигуральное выражение. Традиционные таблоидные ассоциации «Гражданской обороны» с грязью, рванью и дешевым алкоголем формально верны — но на деле крайне далеки от реальности. Своими песнями, своими словами, своими подходом к себе и к миру Летов заставлял и тех, кто всерьез расслышал то, что он сочинил, по-другому относиться к жизни; «Гражданская оборона» — это, конечно, в полной мере не только эстетический, но и этический проект. И через 10 лет после того, как все это формально закончилось, эти песни — верный способ замечать своих среди чужих и не терять их из виду. С моим соседом по студенческой общаге мы изначально подружились именно на почве общей музыки и конкретно «Гражданской обороны»; несколько месяцев назад мы встретились, не видевшись те же 10 лет, — и разговор начался так, как будто предыдущий закончился полчаса назад; думаю, дело тут в общей, созданной во многом Летовым почве, на которой мы до сих пор стоим.
Про Летова сегодня неизбежно будут много говорить, так что мы решили, что в первую очередь можно на него посмотреть. «Гражданская оборона» создала вокруг себя сильный и прочный миф, у которого были и свои обратные стороны: со стороны группа могла восприниматься как несколько угрюмых людей, которые с монашеским упорством делают свое дело и больше ничего. Это, в общем, верно, но с поправками; у Егора Летова тоже была повседневность — она запечатлена на фотографиях последних лет «Гражданской обороны»: Летов пьет чай, читает газеты, фотографируется на фоне достопримечательностей, гладит любимых котов. Об историях, которые стоят за этими снимками, рассказывает басистка «Обороны» и вдова Летова Наталья Чумакова; там тоже много прекрасных в своей будничности анекдотов.
Другой распространенный миф про «Гражданскую оборону» — что это простая или даже плохая музыка, песни из подворотни. Это, конечно, тоже неверно — и сегодня мы попросили рассказать о Летове как композиторе людей, которые профессионально занимаются академической музыкой: авторов опер, пианистов, хормейстеров. Много глубоких и неожиданных суждений.
Ну и еще: сегодня по всей России выходит в ограниченный прокат документальный фильм «Сияние обрушится вниз» — летопись последнего концерта «Гражданской обороны», состоявшегося 9 февраля 2008 года в Екатеринбурге. Это стоит посмотреть; особенно — в такой день.
На фотографии — Егор Летов с котом Песиком.
Я очень хорошо помню день, когда умер Летов, — точнее, хорошо помню, что помню его плохо. Я сидел в редакции журнала «Афиша», где тогда работал, и собирался идти в кино; вдруг меня отозвал Юра Сапрыкин, который тоже там тогда работал, и сказал, что умер Летов. Далее наступил какой-то туман. Я почему-то на автомате все равно пошел в кино — режиссер Филипп Гаррель у меня с тех пор намертво с Летовым ассоциируется, хотя из фильма я не помню ни кадра. Потом так же на автомате пошел домой. Было ощущение какого-то ступора — как такое вообще возможно, это же Летов?! Кажется, это примерно единственный случай, когда я плакал из-за смерти человека, которого не знал лично.
Музыка Егора Летова меняла людей, и это не фигуральное выражение. Традиционные таблоидные ассоциации «Гражданской обороны» с грязью, рванью и дешевым алкоголем формально верны — но на деле крайне далеки от реальности. Своими песнями, своими словами, своими подходом к себе и к миру Летов заставлял и тех, кто всерьез расслышал то, что он сочинил, по-другому относиться к жизни; «Гражданская оборона» — это, конечно, в полной мере не только эстетический, но и этический проект. И через 10 лет после того, как все это формально закончилось, эти песни — верный способ замечать своих среди чужих и не терять их из виду. С моим соседом по студенческой общаге мы изначально подружились именно на почве общей музыки и конкретно «Гражданской обороны»; несколько месяцев назад мы встретились, не видевшись те же 10 лет, — и разговор начался так, как будто предыдущий закончился полчаса назад; думаю, дело тут в общей, созданной во многом Летовым почве, на которой мы до сих пор стоим.
Про Летова сегодня неизбежно будут много говорить, так что мы решили, что в первую очередь можно на него посмотреть. «Гражданская оборона» создала вокруг себя сильный и прочный миф, у которого были и свои обратные стороны: со стороны группа могла восприниматься как несколько угрюмых людей, которые с монашеским упорством делают свое дело и больше ничего. Это, в общем, верно, но с поправками; у Егора Летова тоже была повседневность — она запечатлена на фотографиях последних лет «Гражданской обороны»: Летов пьет чай, читает газеты, фотографируется на фоне достопримечательностей, гладит любимых котов. Об историях, которые стоят за этими снимками, рассказывает басистка «Обороны» и вдова Летова Наталья Чумакова; там тоже много прекрасных в своей будничности анекдотов.
Другой распространенный миф про «Гражданскую оборону» — что это простая или даже плохая музыка, песни из подворотни. Это, конечно, тоже неверно — и сегодня мы попросили рассказать о Летове как композиторе людей, которые профессионально занимаются академической музыкой: авторов опер, пианистов, хормейстеров. Много глубоких и неожиданных суждений.
Ну и еще: сегодня по всей России выходит в ограниченный прокат документальный фильм «Сияние обрушится вниз» — летопись последнего концерта «Гражданской обороны», состоявшегося 9 февраля 2008 года в Екатеринбурге. Это стоит посмотреть; особенно — в такой день.
На фотографии — Егор Летов с котом Песиком.
Надо бы уже, наверное, придумать отдельный термин для такого рода текстов, которые вызывают почти физиологическое возмущение; чем дольше читаешь — тем сильнее и больнее сжимаются кулаки. (Типичный пример — вот этот материал Сары Стиллман для The New Yorker про то, как устроена пожизненная стигма вокруг сексуальных преступлений в США.)
Это материал того же жанра — слишком жуткая даже для кино история про челябинский интернат, где насиловали детей. Про такие еще иногда говорят «тяжело читать, но надо», но мне что-то ужасно надоела эта формула; тут нет никакого «надо» — это страшно, но вообще-то интересно. В конце концов, любой журналистский нарратив можно свести к рассказу о том, какие бывают люди, — и полезно знать, что бывают и вот такие.
https://meduza.io/feature/2018/02/27/deti-kotorye-govorili-strannye-veschi
Это материал того же жанра — слишком жуткая даже для кино история про челябинский интернат, где насиловали детей. Про такие еще иногда говорят «тяжело читать, но надо», но мне что-то ужасно надоела эта формула; тут нет никакого «надо» — это страшно, но вообще-то интересно. В конце концов, любой журналистский нарратив можно свести к рассказу о том, какие бывают люди, — и полезно знать, что бывают и вот такие.
https://meduza.io/feature/2018/02/27/deti-kotorye-govorili-strannye-veschi
Meduza
Дети, которые говорили странные вещи
19 февраля челябинское издание 74.ru рассказало об изнасилованиях подростков в местном детдоме — Лазурненской коррекционной школе-интернате. Приемные родители узнали от детей (им сейчас от 9 до 14 лет), что их регулярно насиловали четыре воспитателя, а также…
Несколько лет назад (интернет безжалостно свидетельствует: много лет назад, аж 9) Лев Данилкин воспел в журнале «Афиша» книгу историков Валерия и Татьяны Соловей «Несостоявшаяся революция». Речь в ней шла о судьбах русского национализма; основная мысль, как она мне помнится через годы и через расстояния, заключалась в том, что российское государство, хоть и настойчиво провозглашало себя русским, никогда таковым не было: основными бенефициарами обеих империй — что царской, что советской — были другие народы; номинально русские колонизировали других, в реальности у колонизованных было больше прав и возможностей, а за гордым понятием «русский народ» никогда не стояло реальных преимуществ титульной нации.
Книжка была написано людьми, явно симпатизирующими националистическим взглядам, — и при всех своих умеренности и академизме интеллектуальным событием, кажется, не стала; слишком controversial. Не ссылается на нее и Александр Эткинд в своей «Внутренней колонизации» — крайне умной и глубокой работе о потайных двигателях и смыслах имперского опыта России; но и ладно, что не ссылается, — потому что один из многих неочевидных и захватывающих тезисов в любом случае с изысканиями Соловьев четко коррелирует. Эткинд четко показывает: основными жертвами крепостного права были именно русские крестьяне «внутренних» губерний, а вовсе не завоеванные / присоединенные народы окраин. Да и вообще — российское государство, империя и ее аппарат, относилось к своему родному подбрюшью, по сути, как к колонии — и с точки зрения режима культурного и политического управления, и с точки зрения метафорики: путешествие «вглубь» России воспринималось как поход в нечто экзотическое, дикое, чужое. Россия, оказавшись на перепутье между Европой и Востоком, смотрела на себя одновременно как на субъект колонизации и как на ее объект; как просвещенный исследователь на дикаря — и как дикарь на просвещенного исследователя.
Это, конечно, не единственная ценная мысль «Внутренней колонизации», до которой я наконец добрался, не прошло и четырех лет (впрочем, это можно сказать о многих обозреваемых здесь книгах). Вообще, одно из основных впечатлений — именно концентрация здесь ценных и неожиданных суждений, которая одновременно восхищает и удручает. Первое — потому что это прямо какое-то наглядное свидетельство того, насколько интересен и неисчерпаем мир идей. Второе — потому что понимаешь, что ты в этом мире можешь быть реципиентом, но никак не производителем. (Наверное, этот восторженный абзац выглядит странно для тех, кто читает такие книги часто. Увы, я делаю это редко.)
Если совсем общо, книга Эткинда анализирует, как историю досоветской и главным образом имперской России — ее политику, экономику, литературу, историческую науку — пронизывают сюжеты, связанные с колонизацией, с освоением «культурным» «дикого», с концепцией «ориентализма» (причем Эткинд значительно углубляет исходные выкладки автора термина Эдварда Саида) и постколониальной теорией (аналогично; например, тут оперируют сравнениями не только с европейским и американским историческими опытами, но и с индийским); как формируется эта вышеупомянутая двойственность идентичности — и как она, в конечном счете, приводит к фатальному внутреннему разлому в российском обществе. Если конкретнее, я попробую ниже выписать те сюжеты, которые меня зацепили и поразили больше всего:
Книжка была написано людьми, явно симпатизирующими националистическим взглядам, — и при всех своих умеренности и академизме интеллектуальным событием, кажется, не стала; слишком controversial. Не ссылается на нее и Александр Эткинд в своей «Внутренней колонизации» — крайне умной и глубокой работе о потайных двигателях и смыслах имперского опыта России; но и ладно, что не ссылается, — потому что один из многих неочевидных и захватывающих тезисов в любом случае с изысканиями Соловьев четко коррелирует. Эткинд четко показывает: основными жертвами крепостного права были именно русские крестьяне «внутренних» губерний, а вовсе не завоеванные / присоединенные народы окраин. Да и вообще — российское государство, империя и ее аппарат, относилось к своему родному подбрюшью, по сути, как к колонии — и с точки зрения режима культурного и политического управления, и с точки зрения метафорики: путешествие «вглубь» России воспринималось как поход в нечто экзотическое, дикое, чужое. Россия, оказавшись на перепутье между Европой и Востоком, смотрела на себя одновременно как на субъект колонизации и как на ее объект; как просвещенный исследователь на дикаря — и как дикарь на просвещенного исследователя.
Это, конечно, не единственная ценная мысль «Внутренней колонизации», до которой я наконец добрался, не прошло и четырех лет (впрочем, это можно сказать о многих обозреваемых здесь книгах). Вообще, одно из основных впечатлений — именно концентрация здесь ценных и неожиданных суждений, которая одновременно восхищает и удручает. Первое — потому что это прямо какое-то наглядное свидетельство того, насколько интересен и неисчерпаем мир идей. Второе — потому что понимаешь, что ты в этом мире можешь быть реципиентом, но никак не производителем. (Наверное, этот восторженный абзац выглядит странно для тех, кто читает такие книги часто. Увы, я делаю это редко.)
Если совсем общо, книга Эткинда анализирует, как историю досоветской и главным образом имперской России — ее политику, экономику, литературу, историческую науку — пронизывают сюжеты, связанные с колонизацией, с освоением «культурным» «дикого», с концепцией «ориентализма» (причем Эткинд значительно углубляет исходные выкладки автора термина Эдварда Саида) и постколониальной теорией (аналогично; например, тут оперируют сравнениями не только с европейским и американским историческими опытами, но и с индийским); как формируется эта вышеупомянутая двойственность идентичности — и как она, в конечном счете, приводит к фатальному внутреннему разлому в российском обществе. Если конкретнее, я попробую ниже выписать те сюжеты, которые меня зацепили и поразили больше всего:
— Территориальная экспансия допетровской / доромановской России была в первую очередь с одним конкретным экономическим фактором: торговлей пушниной, которая была основной статьей государственного дохода примерно в той же степени, что ей в современной России является нефть (рифма тем более поразительная, что некоторые территории, малопригодные для человеческой жизни, осваивались и колонизовались прежде всего из-за пушнины; а через много веков стали регионами нефтедобычи).
— Здесь же — история про приглашение Рюрика и «варягов» как магистральный в каком-то смысле сюжет русской истории. Она фактически начинается с самоколонизации — и продолжается ею; этот сюжет становится лейтмотивом самоосмысления России ее (внутренними колонизаторами). Одна из ключевых риторических формул, которые анализирует Эткинд, — формула историка Сергея Соловьева: «русская история есть история страны, которая колонизуется». Отдельный интерес вызывает деятельность полузабытого историка Афанасия Щапова, который уже в XIX веке крайне прогрессивно по нынешним временам писал историю России прежде всего с точки зрения экологической и экономической экспансии.
— В рамках этой экспансии были самым жестоким образом колонизованы (Эткинд употребляет этот глагол именно так) десятки и сотни нативных племен; многие из них фактически были стерты с лица земли — в общем, сюжет не менее трагический, чем с американцами и индейцами, просто очень плохо зафиксированный.
— Кризис рынка пушнины привел к кризису государства, Смутному времени и перерождению России в империю.
— В самоколонизующей империи, где метрополия и подчиненные ей колонии не были отделены друг от друга океаном, а порой вообще оказывали в непосредственной близости друг от друга, место расовых разграничений заняли сословные. Сословия легитимизировали имперскую власть, но они же конструировали культурные разломы, в которые в конце концов эта власть провалилась. (Один из самых ярких эпизодов — когда Эткинд анализирует впечатления Грибоедова от столкновения с деревенскими жителями под Петербургом; рассказ писателя трудноотличим от европейских нарративов про встречи с дикарями на далеких колонизуемых островах.)
— Замечательное понятие «отрицательной гегемонии»: предполагается, что империя должна насаждать свою культуру на колонизуемых территориях; на деле, как показывает Эткинд, зачастую происходит наоборот — обратная ассимиляция, врастание завоевателей в завоеванных. Таким образом, колонизация кусает сама себя за хвост.
— Ужасно интересно про немецкие колонии, появившиеся в Поволжье при Екатерине II: по сути империя колонизировала собственную территорию руками «просвещенных» европейцев. Как показывает Эткинд, опыт немецких колоний затем применялся империей в ее более широких социальных экспериментах — и, с другой стороны, с этими колониями так или иначе связаны многие люди, впоследствии способствовавшие демонтажу империи.
— Основным политическим инструментом колонизации было Министерство внутренних дел, к концу XIX века фактически превратившееся в главный политический орган империи (про это, кстати, много есть и у Зыгаря). В тех или иных органах тогдашнего МВД служили и делали карьеру большинство интеллектуалов и русских писателей; а также — героев русской литературы, в которых с началом эпохи расцвета русской литературы и начал давать о себе знать тот самый разлом между колонизаторыми и колонизуемыми, которые были одновременно слишком близко друг к другу — и слишком далеки.
— Отдельный потрясающий эпизод — про Кенигсберг, который на несколько лет стал русским в XVIII веке во время Семилетней войны. Причем и стал русским в произвольном режиме, и перестал быть русским беспричинно. Эткинд умудряется очень красиво вывести из этого превращение жителя Кенигсберга Иммануила Канта в одного из главных европейских философов нового времени.
— Здесь же — история про приглашение Рюрика и «варягов» как магистральный в каком-то смысле сюжет русской истории. Она фактически начинается с самоколонизации — и продолжается ею; этот сюжет становится лейтмотивом самоосмысления России ее (внутренними колонизаторами). Одна из ключевых риторических формул, которые анализирует Эткинд, — формула историка Сергея Соловьева: «русская история есть история страны, которая колонизуется». Отдельный интерес вызывает деятельность полузабытого историка Афанасия Щапова, который уже в XIX веке крайне прогрессивно по нынешним временам писал историю России прежде всего с точки зрения экологической и экономической экспансии.
— В рамках этой экспансии были самым жестоким образом колонизованы (Эткинд употребляет этот глагол именно так) десятки и сотни нативных племен; многие из них фактически были стерты с лица земли — в общем, сюжет не менее трагический, чем с американцами и индейцами, просто очень плохо зафиксированный.
— Кризис рынка пушнины привел к кризису государства, Смутному времени и перерождению России в империю.
— В самоколонизующей империи, где метрополия и подчиненные ей колонии не были отделены друг от друга океаном, а порой вообще оказывали в непосредственной близости друг от друга, место расовых разграничений заняли сословные. Сословия легитимизировали имперскую власть, но они же конструировали культурные разломы, в которые в конце концов эта власть провалилась. (Один из самых ярких эпизодов — когда Эткинд анализирует впечатления Грибоедова от столкновения с деревенскими жителями под Петербургом; рассказ писателя трудноотличим от европейских нарративов про встречи с дикарями на далеких колонизуемых островах.)
— Замечательное понятие «отрицательной гегемонии»: предполагается, что империя должна насаждать свою культуру на колонизуемых территориях; на деле, как показывает Эткинд, зачастую происходит наоборот — обратная ассимиляция, врастание завоевателей в завоеванных. Таким образом, колонизация кусает сама себя за хвост.
— Ужасно интересно про немецкие колонии, появившиеся в Поволжье при Екатерине II: по сути империя колонизировала собственную территорию руками «просвещенных» европейцев. Как показывает Эткинд, опыт немецких колоний затем применялся империей в ее более широких социальных экспериментах — и, с другой стороны, с этими колониями так или иначе связаны многие люди, впоследствии способствовавшие демонтажу империи.
— Основным политическим инструментом колонизации было Министерство внутренних дел, к концу XIX века фактически превратившееся в главный политический орган империи (про это, кстати, много есть и у Зыгаря). В тех или иных органах тогдашнего МВД служили и делали карьеру большинство интеллектуалов и русских писателей; а также — героев русской литературы, в которых с началом эпохи расцвета русской литературы и начал давать о себе знать тот самый разлом между колонизаторыми и колонизуемыми, которые были одновременно слишком близко друг к другу — и слишком далеки.
— Отдельный потрясающий эпизод — про Кенигсберг, который на несколько лет стал русским в XVIII веке во время Семилетней войны. Причем и стал русским в произвольном режиме, и перестал быть русским беспричинно. Эткинд умудряется очень красиво вывести из этого превращение жителя Кенигсберга Иммануила Канта в одного из главных европейских философов нового времени.
— «Хождение в народ» Эткинд тоже разбирает в логике внутренней колонизации — и отдельно интересен аспект, что это хождение во многом происходило не просто в народ, а конкретно в расплодившиеся по «глубинной» России христианские секты, отрицавшие государство (Граалем «народников» была полуфантастическая секта бегунов). Сектанты, по Эткинду, — вообще одни из главных героев русской культурной жизни рубежа XIX-XX веков, что особенно ярко и многогранно воплощается в фигуре Толстого и его последователей; тот самый разлом начинает давать о себе знать.
— Еще тут есть мощная литературоведческая составляющая: Гоголь, Достоевский, Андрей Белый, параллельный анализ Джозефа Конрада и Николая Лескова — то есть Эткинд еще и анализирует то, как все эти движения интеллектуальной истории материализуются в культуре.
В общем, бесконечно захватывающая книга, которая у меня еще и хорошо зарифмовалась с не менее захватывающими размышлениями про концепт «особого пути России»: только что про это вышел научный сборник статей в том же издательстве «НЛО», что выпустило Эткинда, и вот прекрасное интервью с составителями. Они, в частности, рассказывают, что идею «особого пути» придумали не в России, а в Германии (и вообще ее придумывают более-менее все народы почти одновременно) — и это, конечно, хорошо встраивается в сюжет про внутреннюю колонизацию: как российское государство интериоризирует колонизующую идею — и в каком-то смысле выворачивает ее наизнанку.
https://www.litres.ru/aleksandr-etkind/vnutrennyaya-kolonizaciya-imperskiy-opyt-rossii-12192344/
— Еще тут есть мощная литературоведческая составляющая: Гоголь, Достоевский, Андрей Белый, параллельный анализ Джозефа Конрада и Николая Лескова — то есть Эткинд еще и анализирует то, как все эти движения интеллектуальной истории материализуются в культуре.
В общем, бесконечно захватывающая книга, которая у меня еще и хорошо зарифмовалась с не менее захватывающими размышлениями про концепт «особого пути России»: только что про это вышел научный сборник статей в том же издательстве «НЛО», что выпустило Эткинда, и вот прекрасное интервью с составителями. Они, в частности, рассказывают, что идею «особого пути» придумали не в России, а в Германии (и вообще ее придумывают более-менее все народы почти одновременно) — и это, конечно, хорошо встраивается в сюжет про внутреннюю колонизацию: как российское государство интериоризирует колонизующую идею — и в каком-то смысле выворачивает ее наизнанку.
https://www.litres.ru/aleksandr-etkind/vnutrennyaya-kolonizaciya-imperskiy-opyt-rossii-12192344/