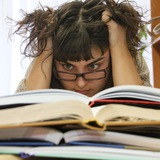«Эшелон на Самарканд»: о нападках на автора, исторической правде и художественном правдоподобии
Несмотря на то, что роман Гузель Яхиной «Эшелон на Самарканд» вышел в продажу только в марте, по книге и по ее автору катком не прошелся уже только ленивый. Большая часть критически низких отзывов и роману, и таланту автора была дана людьми, книгу не читавшими.
«Не читал, но осуждаю»
Вот, например, обескураживающе самообличительный отзыв о романе от писателя Юрия Полякова:
«…согласитесь, писать о такой трагедии, как голод в Поволжье, опираясь (даже со ссылкой) на блогерские заметки историка, пусть и профессионально занимающегося этой темой, – занятие, по крайней мере, легкомысленное, а если говорить по совести – кощунственное. <…> В книгах, подобных «Зулейхе…», «Обители» или «Авиатору», мы имеем дело не с художественной реконструкцией прошлого, не с исторической романистикой, а со злобными, безответственными или в лучшем случае неряшливыми фэнтези по мотивам событий отечественной истории…»
Сильная претензия. Особенно если взять в расчет то, что написано в следующем абзаце:
««Эшелон...» я, разумеется, не читал, не собираюсь и другим не советую. У меня вообще есть принцип, который спасает от бессмысленной траты времени на чепуху, записанную буквами. Поделюсь: если, осилив главу-другую, я понимаю, что имею дело с клинической графоманией (а это опытному глазу видно с первых строк), то больше никогда не беру в руки издания этого автора, какие бы хвалебные трели ни испускали наёмные канарейки вроде Г. Юзефович».
Классическое «не читал, но осуждаю», еще и с переходом на личности. Непрофессионально, неэтично и просто противно. Но мы переходить на личности не будем, и выразив сочувствие Гузель Яхиной, которой после выхода книги приходится сталкиваться с такими «благожелателями» на каждом шагу, обратимся к тексту романа «Эшелон на Самарканд».
Сюжет и его историческая основа
Уже общеизвестно, что это книга о голоде в Поволжье в 20-е годы прошлого века и о том, как голодающих детей на поездах вывозили из родных мест в более сытые регионы: сначала в Москву, а когда и в столице стало плохо с продовольствием, то в южные республики, в частности, в Туркестан (нынешний Узбекистан).
Система была устроена таким образом, что осенью детей вывозили, а весной возвращали обратно. Действие романа «Эшелон на Самарканд» начинается в октябре. Год не назван, но его можно вычислить. Так, главный герой Деев в споре с командиром военной академии, пытаясь убедить его дать «в аренду» пятьсот пар солдатских сапог, кричит:
«А если все они умрут от простуды — пятьсот детей? Три голодных года продержались, а сейчас умрут?»
Зная, что голод в Поволжье начался в 1919-м, мы делаем вывод, что на дворе конец 1921-го года.
Итак, в октябре 1921-го года прозванный «Гирляндой» поезд, состоящий из восьми разномастных вагонов (бывший вагон первого класса, пять разбитых плацкартных, походная церковь, превращенная в лазарет и вагон-кухня, совмещенный с амбаром и курятником), выезжает из Казани в Самарканд.
О героях
Возглавляет эшелон начальник поезда Деев, двадцатисемилетний бывший красноармеец. Ему в помощь Деткомиссия направляет комиссара Белую, которая годится Дееву в «старшие сестры», как сам герой мысленно определил.
Получается интересный дуэт: робеющий перед женщинами нецелованный красноармеец, который хочет быть добрым старшим товарищем для детей из эшелона, и женщина-клинок, способная любого начальника заставить ей повиноваться. У обоих, естественно, есть «второе дно».
Деев, например, участвовал в показательном расстреле солдат Петроградского рабочего полка, струсивших во время боя с белогвардейцами. С тех пор он не может забыть вид волжской воды, красной от крови, в которой катера «утюжат» тела расстрелянных бойцов. А Белая до революции жила при монастыре, и, пожалуй, стала бы христовой невестой, если бы не смена власти.
Несмотря на то, что роман Гузель Яхиной «Эшелон на Самарканд» вышел в продажу только в марте, по книге и по ее автору катком не прошелся уже только ленивый. Большая часть критически низких отзывов и роману, и таланту автора была дана людьми, книгу не читавшими.
«Не читал, но осуждаю»
Вот, например, обескураживающе самообличительный отзыв о романе от писателя Юрия Полякова:
«…согласитесь, писать о такой трагедии, как голод в Поволжье, опираясь (даже со ссылкой) на блогерские заметки историка, пусть и профессионально занимающегося этой темой, – занятие, по крайней мере, легкомысленное, а если говорить по совести – кощунственное. <…> В книгах, подобных «Зулейхе…», «Обители» или «Авиатору», мы имеем дело не с художественной реконструкцией прошлого, не с исторической романистикой, а со злобными, безответственными или в лучшем случае неряшливыми фэнтези по мотивам событий отечественной истории…»
Сильная претензия. Особенно если взять в расчет то, что написано в следующем абзаце:
««Эшелон...» я, разумеется, не читал, не собираюсь и другим не советую. У меня вообще есть принцип, который спасает от бессмысленной траты времени на чепуху, записанную буквами. Поделюсь: если, осилив главу-другую, я понимаю, что имею дело с клинической графоманией (а это опытному глазу видно с первых строк), то больше никогда не беру в руки издания этого автора, какие бы хвалебные трели ни испускали наёмные канарейки вроде Г. Юзефович».
Классическое «не читал, но осуждаю», еще и с переходом на личности. Непрофессионально, неэтично и просто противно. Но мы переходить на личности не будем, и выразив сочувствие Гузель Яхиной, которой после выхода книги приходится сталкиваться с такими «благожелателями» на каждом шагу, обратимся к тексту романа «Эшелон на Самарканд».
Сюжет и его историческая основа
Уже общеизвестно, что это книга о голоде в Поволжье в 20-е годы прошлого века и о том, как голодающих детей на поездах вывозили из родных мест в более сытые регионы: сначала в Москву, а когда и в столице стало плохо с продовольствием, то в южные республики, в частности, в Туркестан (нынешний Узбекистан).
Система была устроена таким образом, что осенью детей вывозили, а весной возвращали обратно. Действие романа «Эшелон на Самарканд» начинается в октябре. Год не назван, но его можно вычислить. Так, главный герой Деев в споре с командиром военной академии, пытаясь убедить его дать «в аренду» пятьсот пар солдатских сапог, кричит:
«А если все они умрут от простуды — пятьсот детей? Три голодных года продержались, а сейчас умрут?»
Зная, что голод в Поволжье начался в 1919-м, мы делаем вывод, что на дворе конец 1921-го года.
Итак, в октябре 1921-го года прозванный «Гирляндой» поезд, состоящий из восьми разномастных вагонов (бывший вагон первого класса, пять разбитых плацкартных, походная церковь, превращенная в лазарет и вагон-кухня, совмещенный с амбаром и курятником), выезжает из Казани в Самарканд.
О героях
Возглавляет эшелон начальник поезда Деев, двадцатисемилетний бывший красноармеец. Ему в помощь Деткомиссия направляет комиссара Белую, которая годится Дееву в «старшие сестры», как сам герой мысленно определил.
Получается интересный дуэт: робеющий перед женщинами нецелованный красноармеец, который хочет быть добрым старшим товарищем для детей из эшелона, и женщина-клинок, способная любого начальника заставить ей повиноваться. У обоих, естественно, есть «второе дно».
Деев, например, участвовал в показательном расстреле солдат Петроградского рабочего полка, струсивших во время боя с белогвардейцами. С тех пор он не может забыть вид волжской воды, красной от крови, в которой катера «утюжат» тела расстрелянных бойцов. А Белая до революции жила при монастыре, и, пожалуй, стала бы христовой невестой, если бы не смена власти.
В новой жизни она стала женщиной новой, советской, породы, которая умеет держать власть в своих руках, наслаждается одиночеством и к помощи мужчин прибегает только тогда, когда приходит срок удовлетворять естественные сексуальные потребности.
Дополняют этот дуэт главных действующих лиц семидесятилетний фельдшер Буг, любитель лошадей и поэзии, социальная сестра Фатима, выпускница университета Цюриха, в которую оказываются немо и абсолютно безнадежно влюблены и фельдшер, и начальник поезда, пять сотен детей, имена и клички которых на трех с половиной страницах перечислены в конце романа, и череда очень противоречивых личностей, с которыми пересекаются пути эшелона по пути в Самарканд. Среди них есть и чекисты, и белогвардейцы, и басмачи, и простой люд, голодный и оборванный, бредущий навстречу паровозу, в сторону Москвы, в поисках более сытой жизни.
О композиции
Композиционно «Эшелон на Самарканд» построен по принципу классического романа-путешествия, от радищевского «Путешествия из Петербурга в Москву» до «Москвы-Петушков» Венички Ерофеева. В название глав часто выносятся отрезки пути, которые поезд преодолевает на этом отрезке повествования: «Свияжск – Урмары», «Сергач – Арзамас – Бузулук», «Оренбург – Аральск», и т.д.
Сама Гузель Яхина рассказывала, что в книге описан реальный железнодорожный маршрут первой четверти XX века. Автор проложила его по картам железных дорог, в основном дореволюционным. А местность, через которую проезжал эшелон, описывала отчасти по собственным воспоминаниям (Поволжье Гузель Яхина знает хорошо), отчасти – с помощью друга из Узбекистана, который прислал ей серию фотографий, сделанных во время путешествия на поезде из Самарканда в Уфу.
Об источниках
Теперь несколько слов в противовес нападкам недоброжелателей о том, что, мол, весь сюжет романа Яхина списала с блога самарского историка Цыденкова. На самом деле нет. В комментариях к «Эшелону» она перечисляет основные источники, которыми пользовалась при подготовке текста. Это семь сборников воспоминаний ликвидаторов голода в Поволжье, подшивка газеты «Красная Татария» за 1926 год, исследования историков Береловича, Данилова и Полякова, сборник писем тех лет, сборник архивных документов, сборник литературно-художественных материалов, все с указанием авторов-составителей и года издания. После того, как разгорелся скандал в соцсетях, Яхина пообещала сделать по тексту подробные ссылки на источники.
Обвинять автора художественного произведения в том, что он «украл» чью-то идею, по меньшей мере неуместно. Никто не мешает историку Цыденкову или любому другому интересующемуся темой написать свой роман на ту же тему. Ничто ведь не мешало Гончарову с Тургеневым параллельно писать о дворянских гнездах (хотя и тогда один обижался на другого, говоря, что визави украл его замысел). Тем не менее, появились и «Обрыв» Гончарова, и «Дворянское гнездо» с «Накануне» Тургенева. Никто не может запретить писателю писать, и в этом главное счастье творчества. Другое дело, что одни доходят до слова «Конец» на последней странице, а другие так и не решаются начать, или бросают работу на середине. Вопрос дисциплины и целеполагания.
Немного слишком
Проблема романа «Эшелон на Самарканд» вовсе не в том, что его автора обвиняют в плагиате. И не в том, что по мнению части публики, написанное в нем противоречит реальной советской истории. Художественное произведение судят по иным критериям: в нем должна быть своя, художественная правда, и оттого, насколько она убедительна, зависит успех текста у читателя.
Проблема «Эшелона на Самарканд» как раз в убедительности этой художественной правды. Героям не до конца веришь, потому что они излишне схематичные, не похожие на живых людей. Деев – карикатурно смелый солдат, готовый пожертвовать жизнью ради исполнения приказа. Белая – карикатурно безапелляционная женщина-комиссар в кожаной кепке и башмаках с квадратными носами.
Дополняют этот дуэт главных действующих лиц семидесятилетний фельдшер Буг, любитель лошадей и поэзии, социальная сестра Фатима, выпускница университета Цюриха, в которую оказываются немо и абсолютно безнадежно влюблены и фельдшер, и начальник поезда, пять сотен детей, имена и клички которых на трех с половиной страницах перечислены в конце романа, и череда очень противоречивых личностей, с которыми пересекаются пути эшелона по пути в Самарканд. Среди них есть и чекисты, и белогвардейцы, и басмачи, и простой люд, голодный и оборванный, бредущий навстречу паровозу, в сторону Москвы, в поисках более сытой жизни.
О композиции
Композиционно «Эшелон на Самарканд» построен по принципу классического романа-путешествия, от радищевского «Путешествия из Петербурга в Москву» до «Москвы-Петушков» Венички Ерофеева. В название глав часто выносятся отрезки пути, которые поезд преодолевает на этом отрезке повествования: «Свияжск – Урмары», «Сергач – Арзамас – Бузулук», «Оренбург – Аральск», и т.д.
Сама Гузель Яхина рассказывала, что в книге описан реальный железнодорожный маршрут первой четверти XX века. Автор проложила его по картам железных дорог, в основном дореволюционным. А местность, через которую проезжал эшелон, описывала отчасти по собственным воспоминаниям (Поволжье Гузель Яхина знает хорошо), отчасти – с помощью друга из Узбекистана, который прислал ей серию фотографий, сделанных во время путешествия на поезде из Самарканда в Уфу.
Об источниках
Теперь несколько слов в противовес нападкам недоброжелателей о том, что, мол, весь сюжет романа Яхина списала с блога самарского историка Цыденкова. На самом деле нет. В комментариях к «Эшелону» она перечисляет основные источники, которыми пользовалась при подготовке текста. Это семь сборников воспоминаний ликвидаторов голода в Поволжье, подшивка газеты «Красная Татария» за 1926 год, исследования историков Береловича, Данилова и Полякова, сборник писем тех лет, сборник архивных документов, сборник литературно-художественных материалов, все с указанием авторов-составителей и года издания. После того, как разгорелся скандал в соцсетях, Яхина пообещала сделать по тексту подробные ссылки на источники.
Обвинять автора художественного произведения в том, что он «украл» чью-то идею, по меньшей мере неуместно. Никто не мешает историку Цыденкову или любому другому интересующемуся темой написать свой роман на ту же тему. Ничто ведь не мешало Гончарову с Тургеневым параллельно писать о дворянских гнездах (хотя и тогда один обижался на другого, говоря, что визави украл его замысел). Тем не менее, появились и «Обрыв» Гончарова, и «Дворянское гнездо» с «Накануне» Тургенева. Никто не может запретить писателю писать, и в этом главное счастье творчества. Другое дело, что одни доходят до слова «Конец» на последней странице, а другие так и не решаются начать, или бросают работу на середине. Вопрос дисциплины и целеполагания.
Немного слишком
Проблема романа «Эшелон на Самарканд» вовсе не в том, что его автора обвиняют в плагиате. И не в том, что по мнению части публики, написанное в нем противоречит реальной советской истории. Художественное произведение судят по иным критериям: в нем должна быть своя, художественная правда, и оттого, насколько она убедительна, зависит успех текста у читателя.
Проблема «Эшелона на Самарканд» как раз в убедительности этой художественной правды. Героям не до конца веришь, потому что они излишне схематичные, не похожие на живых людей. Деев – карикатурно смелый солдат, готовый пожертвовать жизнью ради исполнения приказа. Белая – карикатурно безапелляционная женщина-комиссар в кожаной кепке и башмаках с квадратными носами.
Они могли бы быть персонажами анекдотов наряду с Петькой и Анкой-пулеметчицей. Но в столь глубоком по проблематике романе, как «Эшелон на Самарканд», хотелось бы видеть более сложных и «очеловеченных» героев.
Когда в тексте появляются вспышки «человечности», он становится особенно мил. Деев с семечковой шелухой на лбу, испуганно глядящий на Белую снизу вверх, гораздо симпатичнее, чем Деев, победно идущий к «Гирлянде» с героически добытым теленком на плечах. С Белой такие «вспышки» человечности происходят куда реже. Даже когда читатель вместе с Деевым застигает ее в собственном купе за мытьем белых грудей над тазом, она похожа не на живую женщину из плоти, а на Галу с портрета Сальвадора Дали, женщину с отрешенным и пронизывающим взглядом, равновеличественную в одежде и без нее.
«Схематичность» в изображении главных героев ведет в конечном счете к «мелодраматизации» всего текста романа. Как бы само собой разумеется, что два столь разных человека, как Белая и Деев, на протяжении шести недель едущие в соседних купе, рано или поздно окажутся в одной постели. Добавим сюда тайное увлечение Деева Фатимой и внезапно зародившуюся позднюю любовь к ней же фельдшера Буга, и получится классический любовный многоугольник, фундамент любой современной мелодрамы.
Нельзя сказать, что «мелодраматизация» романа – это однозначно плохо. Но в случае с такой сильной и вовлекающей темой как спасение голодающих детей, выписанной однозначно убедительно и с опорой на источники, этот прием кажется слишком нарочитым и совершенно излишним. Хотя, конечно, найдутся те, кто будет читать роман только чтобы узнать, получится ли в итоге что-то у Деева с Белой, или нет.
И хорошо.
Каждому – свое, романы Яхиной – всем.
Когда в тексте появляются вспышки «человечности», он становится особенно мил. Деев с семечковой шелухой на лбу, испуганно глядящий на Белую снизу вверх, гораздо симпатичнее, чем Деев, победно идущий к «Гирлянде» с героически добытым теленком на плечах. С Белой такие «вспышки» человечности происходят куда реже. Даже когда читатель вместе с Деевым застигает ее в собственном купе за мытьем белых грудей над тазом, она похожа не на живую женщину из плоти, а на Галу с портрета Сальвадора Дали, женщину с отрешенным и пронизывающим взглядом, равновеличественную в одежде и без нее.
«Схематичность» в изображении главных героев ведет в конечном счете к «мелодраматизации» всего текста романа. Как бы само собой разумеется, что два столь разных человека, как Белая и Деев, на протяжении шести недель едущие в соседних купе, рано или поздно окажутся в одной постели. Добавим сюда тайное увлечение Деева Фатимой и внезапно зародившуюся позднюю любовь к ней же фельдшера Буга, и получится классический любовный многоугольник, фундамент любой современной мелодрамы.
Нельзя сказать, что «мелодраматизация» романа – это однозначно плохо. Но в случае с такой сильной и вовлекающей темой как спасение голодающих детей, выписанной однозначно убедительно и с опорой на источники, этот прием кажется слишком нарочитым и совершенно излишним. Хотя, конечно, найдутся те, кто будет читать роман только чтобы узнать, получится ли в итоге что-то у Деева с Белой, или нет.
И хорошо.
Каждому – свое, романы Яхиной – всем.
Дмитрий Быков об основном конфликте "Тихого Дона" (имена героев изменены, но характеры вполне узнаваемы):
"И умереть жалко, и жить нельзя. Так же было и у Панкрата с Анфисой: никакой не было моченьки жить с нелюбимой дурой Татьяной, а кинуть детушек он жалковал, и тянулась промеж них эта безвыходная несносность, от которой то с кулаками, то со злой похотью кидался он уж и на Татьяну, и на Анфису, а уж как рубал шашкою то белых, то красных — степь дрожала".
Сам роман Быкова "Икс" - о том, действительно ли Шолохов (в книге - Шелестов) "списал" у кого-то "Тихий Дон", или нет. С учетом кейсов Яхиной и Улицкой чрезвычайно актуальная повестка. И занимательно.
"И умереть жалко, и жить нельзя. Так же было и у Панкрата с Анфисой: никакой не было моченьки жить с нелюбимой дурой Татьяной, а кинуть детушек он жалковал, и тянулась промеж них эта безвыходная несносность, от которой то с кулаками, то со злой похотью кидался он уж и на Татьяну, и на Анфису, а уж как рубал шашкою то белых, то красных — степь дрожала".
Сам роман Быкова "Икс" - о том, действительно ли Шолохов (в книге - Шелестов) "списал" у кого-то "Тихий Дон", или нет. С учетом кейсов Яхиной и Улицкой чрезвычайно актуальная повестка. И занимательно.
Начался Нонфикшн – большая книжная ярмарка в Гостином дворе (Москва, Ильинка д.4). В пятницу и в воскресенье рассказываю о книгах "Редакции Елены Шубиной" на стенде АСТ. Вдруг кто хочет посмотреть мне в глаза – приходите.
Подборочку про котиков, собачек, медведиков и коников забабахала вот. Не все же серьезную мину строить.
https://zen.yandex.ru/media/id/5ed0aab2d0acd8032ab57ba9/ne-tolko-koty-vesennee-chtenie-pro-jivotnyh-ot-redakcii-eleny-shubinoi-605b48f92745231fa6f2cad3
https://zen.yandex.ru/media/id/5ed0aab2d0acd8032ab57ba9/ne-tolko-koty-vesennee-chtenie-pro-jivotnyh-ot-redakcii-eleny-shubinoi-605b48f92745231fa6f2cad3
Яндекс Дзен
Не только коты: весеннее чтение про животных от «Редакции Елены Шубиной»
Весной все пробуждается: громче щебечут птицы, активизируются сохранившие свободу выгула коты и кошки, и даже аквариумные рыбки, кажется, начинают плавать шустрее, когда луч солнца падает на стеклянную стенку аквариума.
Итоги ярмарки Нонфикшн
"Эшелон на Самарканд" закончился утром в воскресенье, и до вечера я слушала на стенде расстроенные "Ну вот, что же вы так мало привезли". То же, но в чуть меньших масштабах, с "Другой материей" Аллы Горбуновой.
В отличие от ММКВЯ хорошо покупали собственно нонфикшн: мемуары, дневники, воспоминания, особенно свежего Лекманова комментарии (комментарии к мемуарам Ирины Одоевцевой) и биографию Вудхауса руки Александра Ливерганта.
Таскала и перекладывала коробки, прыгала на стулья, пытаясь дотянуться до Водолазкина на самой верхней полке стеллажа, сделала сотни две приседаний, доставая книги из-под прилавка и укладывая их в ровные стопки перед покупателями. Кроссфит для жизни, одним словом.
Давно так много не говорила. Самым приятным было услышать от продавцов "МДК": "Надя, вы так интересно рассказываете про книги, мы сами слушаем с удовольствием, будем так же рассказывать покупателям". Ужасно приятно.
"Эшелон на Самарканд" закончился утром в воскресенье, и до вечера я слушала на стенде расстроенные "Ну вот, что же вы так мало привезли". То же, но в чуть меньших масштабах, с "Другой материей" Аллы Горбуновой.
В отличие от ММКВЯ хорошо покупали собственно нонфикшн: мемуары, дневники, воспоминания, особенно свежего Лекманова комментарии (комментарии к мемуарам Ирины Одоевцевой) и биографию Вудхауса руки Александра Ливерганта.
Таскала и перекладывала коробки, прыгала на стулья, пытаясь дотянуться до Водолазкина на самой верхней полке стеллажа, сделала сотни две приседаний, доставая книги из-под прилавка и укладывая их в ровные стопки перед покупателями. Кроссфит для жизни, одним словом.
Давно так много не говорила. Самым приятным было услышать от продавцов "МДК": "Надя, вы так интересно рассказываете про книги, мы сами слушаем с удовольствием, будем так же рассказывать покупателям". Ужасно приятно.
Признание века: я разлюбила Марину Цветаеву
Я любила ее с десяти лет. Тогда, двадцать лет назад, я написала ее короткое стихотворение про "любовный голод" на открытке, предназначавшейся однокласснику.
Потом, много-много лет подряд, я учила ее стихи наизусть и цитировала самой себе, когда томилась сердцем. Все вот эти: "Полнолунье и мех медвежий", "Рас-стояние: версты, мили...", "Да здравствует черный туз!", "Семь мечей пронзали сердце" и прочая, прочая, прочая...
Я бродила по Коктебельскому берегу за руку с сыном Георгием, держа под мышкой книжку цветаевских дневников, и представляла, как тем же берегом за сто лет до меня ходила она. Я была во всех российских музеях ее имени. Я слушала все попадавшиеся мне под руку лекции о ней.
А тут вдруг в послесловии Натальи Громовой к книге воспоминаний Ольги Карлайл "Остров на всю жизнь" прочитала:
“Ольга Елисеевна Колбасина-Чернова не только выхлопотала французскую визу для Эфронов, не только прислала денег на дорогу, она отдала в своей трехкомнатной квартире лучшую, самую вместительную комнату, освободив гостей от квартплаты, которую сама вносила, что не помешало Марине Ивановне на вопрос пришедшего с нею познакомиться князя Святополк-Мирского: «Кто эта очаровательная дама, которая открыла мне входную дверь?» — ответить так: «Ах, не обращайте внимания — это моя квартирная хозяйка…»”
И все. Как отрезало. Я знала раньше, что "у Цветаевой был непростой характер", но этот эпизод поставил все на свои места. Цветаева была просто гениальной хамкой.
Будь ты хоть трижды гениален, веди себя с людьми по-человечески, пожалуйста: будь вежлив, не втаптывай ближнего в грязь, не делай вид, что его не существует.
К сожалению, мне часто приходится видеть обратное. Я не хочу и не буду больше восхищаться такими людьми и тратить душевные силы, чтобы любить их. В мире слишком много других, гораздо более достойных, пусть и намного менее заметных. Мое сердце будет с ними.
Я любила ее с десяти лет. Тогда, двадцать лет назад, я написала ее короткое стихотворение про "любовный голод" на открытке, предназначавшейся однокласснику.
Потом, много-много лет подряд, я учила ее стихи наизусть и цитировала самой себе, когда томилась сердцем. Все вот эти: "Полнолунье и мех медвежий", "Рас-стояние: версты, мили...", "Да здравствует черный туз!", "Семь мечей пронзали сердце" и прочая, прочая, прочая...
Я бродила по Коктебельскому берегу за руку с сыном Георгием, держа под мышкой книжку цветаевских дневников, и представляла, как тем же берегом за сто лет до меня ходила она. Я была во всех российских музеях ее имени. Я слушала все попадавшиеся мне под руку лекции о ней.
А тут вдруг в послесловии Натальи Громовой к книге воспоминаний Ольги Карлайл "Остров на всю жизнь" прочитала:
“Ольга Елисеевна Колбасина-Чернова не только выхлопотала французскую визу для Эфронов, не только прислала денег на дорогу, она отдала в своей трехкомнатной квартире лучшую, самую вместительную комнату, освободив гостей от квартплаты, которую сама вносила, что не помешало Марине Ивановне на вопрос пришедшего с нею познакомиться князя Святополк-Мирского: «Кто эта очаровательная дама, которая открыла мне входную дверь?» — ответить так: «Ах, не обращайте внимания — это моя квартирная хозяйка…»”
И все. Как отрезало. Я знала раньше, что "у Цветаевой был непростой характер", но этот эпизод поставил все на свои места. Цветаева была просто гениальной хамкой.
Будь ты хоть трижды гениален, веди себя с людьми по-человечески, пожалуйста: будь вежлив, не втаптывай ближнего в грязь, не делай вид, что его не существует.
К сожалению, мне часто приходится видеть обратное. Я не хочу и не буду больше восхищаться такими людьми и тратить душевные силы, чтобы любить их. В мире слишком много других, гораздо более достойных, пусть и намного менее заметных. Мое сердце будет с ними.
Отправила в типографию новую книжку, которую сделала сама от и до: от рецензии на рукопись и редактирования до выбора обложки и финальных правок от автора в макет. Олег Ермаков, "Родник Олафа".
Хорошая книжка, большой роман. О немом мальчике с древнерусской Смоленщины, который хочет, но никак не может обрести речь. О первых русских христианах и последних язычниках. О хрупком мире, зависевшем от воли природы и мудрости тех, в чьих руках власть. Об обретении себя и слова.
Я очень надеюсь, что роман найдет своего читателя. И может быть даже получит хорошую литературную премию. В добрый путь, добрая книжка!
Хорошая книжка, большой роман. О немом мальчике с древнерусской Смоленщины, который хочет, но никак не может обрести речь. О первых русских христианах и последних язычниках. О хрупком мире, зависевшем от воли природы и мудрости тех, в чьих руках власть. Об обретении себя и слова.
Я очень надеюсь, что роман найдет своего читателя. И может быть даже получит хорошую литературную премию. В добрый путь, добрая книжка!
Обожаю, когда в отзывах на книги на сайтах книжных магазинов пишут что-то вроде: "Скучно. Муторно. Много воды".
Вот вам идея для книги-бестселлера: "Все произведения современной русской прозы без воды". Внутри – по одной странице на роман (с иллюстрациями, разумеется).
Например, так:
Евгений Водолазкин, "Лавр": "Парниша в Древней Руси месяц прожил в избе с двумя разлагающимися трупами, а потом ушел странствовать и наконец умер".
Гузель Яхина, "Зулейха открывает глаза":
"Бездетная бабенка чудом беременеет и не умирает с голоду зимой в сибирской землянке, но сильно портит себе пальцы. Потом у нее все хорошо".
Захар Прилепин, "Обитель":
"Двадцатилетний парниша попадает в исправительный лагерь и 800 страниц подряд пытается спастись от уголовников. В конце концов ему не везёт".
Все, и читать не надо. Зачем время-то тратить, ей-богу.
Вот вам идея для книги-бестселлера: "Все произведения современной русской прозы без воды". Внутри – по одной странице на роман (с иллюстрациями, разумеется).
Например, так:
Евгений Водолазкин, "Лавр": "Парниша в Древней Руси месяц прожил в избе с двумя разлагающимися трупами, а потом ушел странствовать и наконец умер".
Гузель Яхина, "Зулейха открывает глаза":
"Бездетная бабенка чудом беременеет и не умирает с голоду зимой в сибирской землянке, но сильно портит себе пальцы. Потом у нее все хорошо".
Захар Прилепин, "Обитель":
"Двадцатилетний парниша попадает в исправительный лагерь и 800 страниц подряд пытается спастись от уголовников. В конце концов ему не везёт".
Все, и читать не надо. Зачем время-то тратить, ей-богу.
Татьяна Замировская "Смерти.net"
Я прочитала столько современной русской прозы, что, признаюсь, уже стала терять к ней вкус. Это как каждый день есть курогрудь: вроде и приготовить можно вкусно, но надоело же!
Чувство было именно такое, пока мне в руки не попал новый роман Татьяны Замировской "Смерти.net". До мурашек, но невозможности оторваться.
Роман-антиутопия про мир, в котором "цифровые копии" всех умерших людей стали загружать в специальный "интернет для мертвых", ставший миром, параллельным миру живых. Теперь родные могут общаться по условному "скайпу" со своими умершими, вместе с ними оплакивать их смерть, рассказывать то, что не успели рассказать при жизни.
Но что делать, если ты сам вдруг очутился "по ту сторону", а самый близкий человек из живых не желает с тобой говорить? Имеешь ли ты право на новую жизнь после смерти, или обречен ходить цифровой тенью за "своими" живыми? Наконец, возможна ли после смерти новая любовь?
Очень животрепещуще.
Я прочитала столько современной русской прозы, что, признаюсь, уже стала терять к ней вкус. Это как каждый день есть курогрудь: вроде и приготовить можно вкусно, но надоело же!
Чувство было именно такое, пока мне в руки не попал новый роман Татьяны Замировской "Смерти.net". До мурашек, но невозможности оторваться.
Роман-антиутопия про мир, в котором "цифровые копии" всех умерших людей стали загружать в специальный "интернет для мертвых", ставший миром, параллельным миру живых. Теперь родные могут общаться по условному "скайпу" со своими умершими, вместе с ними оплакивать их смерть, рассказывать то, что не успели рассказать при жизни.
Но что делать, если ты сам вдруг очутился "по ту сторону", а самый близкий человек из живых не желает с тобой говорить? Имеешь ли ты право на новую жизнь после смерти, или обречен ходить цифровой тенью за "своими" живыми? Наконец, возможна ли после смерти новая любовь?
Очень животрепещуще.
Слово в пользу (сравнительно) новой американской прозы
Честно вам скажу: я устала от современной русской литературы. У меня передоз. Поэтому я купила десяток книг зарубежной прозы (в переводе с конечно, shame on me), читаю, наслаждаюсь, делюсь с вами.
Что очень выгодно отличает условно современную американскую литературу от русской – это отлично выстроенный сюжет, за развитием которого приятно и интересно следить. Сколь бы начитанным ты ни был, эта проза захватывает так, будто в первый раз читаешь хемингуэевскую "Фиесту" и не можешь остановиться, не узнав, что будет с героями дальше.
Я говорю все это, держа в голове две книги – «Город женщин» Элизабет Гилберт и «Жареные зелёные помидоры в кафе "Полустанок"» Фэнни Флэгг.
Обе книги в сухом остатке сводятся к историям жизни нескольких главных героев. Время действия - 20 век в США с его Великой депрессией, эпохой джаза, Ку-клукс-кланом, Второй мировой войной, борьбой за равенство рас и полов и эрой всеобщей свободы.
В случае с Элизабет Гилберт это рассказ о жизни девушки, приехавшей из маленького городка в Нью-Йорк, оторвавшейся от консервативной семьи и узнавшей все стороны абсолютной свободы.
В случае с Фэнни Флэгг это история о жизни взбалмошной героини и ее близких в маленьком местечке в Алабаме, куда на исходе века перестали ходить даже грузовые поезда, но откуда героиня и все дорогие ей люди никогда не уехали.
Это два примера очень крепкой, затягивающей, кинематографичной беллетристики, передающей дух времени и места.
Всем, кто страдает по поводу отказа посольства США выдавать россиянам туристические визы, читать в оригинале и представлять, как однажды, несмотря на пандемии и истерики политиков, вы пройдете по следам героев по непарадным улочкам Нью-Йорка или проедете на пикапе по пыльным грунтовым дорогам в Алабаме (интересно, такие ещё остались?).
Честно вам скажу: я устала от современной русской литературы. У меня передоз. Поэтому я купила десяток книг зарубежной прозы (в переводе с конечно, shame on me), читаю, наслаждаюсь, делюсь с вами.
Что очень выгодно отличает условно современную американскую литературу от русской – это отлично выстроенный сюжет, за развитием которого приятно и интересно следить. Сколь бы начитанным ты ни был, эта проза захватывает так, будто в первый раз читаешь хемингуэевскую "Фиесту" и не можешь остановиться, не узнав, что будет с героями дальше.
Я говорю все это, держа в голове две книги – «Город женщин» Элизабет Гилберт и «Жареные зелёные помидоры в кафе "Полустанок"» Фэнни Флэгг.
Обе книги в сухом остатке сводятся к историям жизни нескольких главных героев. Время действия - 20 век в США с его Великой депрессией, эпохой джаза, Ку-клукс-кланом, Второй мировой войной, борьбой за равенство рас и полов и эрой всеобщей свободы.
В случае с Элизабет Гилберт это рассказ о жизни девушки, приехавшей из маленького городка в Нью-Йорк, оторвавшейся от консервативной семьи и узнавшей все стороны абсолютной свободы.
В случае с Фэнни Флэгг это история о жизни взбалмошной героини и ее близких в маленьком местечке в Алабаме, куда на исходе века перестали ходить даже грузовые поезда, но откуда героиня и все дорогие ей люди никогда не уехали.
Это два примера очень крепкой, затягивающей, кинематографичной беллетристики, передающей дух времени и места.
Всем, кто страдает по поводу отказа посольства США выдавать россиянам туристические визы, читать в оригинале и представлять, как однажды, несмотря на пандемии и истерики политиков, вы пройдете по следам героев по непарадным улочкам Нью-Йорка или проедете на пикапе по пыльным грунтовым дорогам в Алабаме (интересно, такие ещё остались?).
Фредрик Бакман "Бабушка велела кланяться и передать, что просит прощения"
Продолжаю (испытывая легкое чувство вины) читать современную зарубежную прозу вместо отечественной, делюсь с вами лучшим.
Книги Фредрика Бакмана есть, пожалуй, в любой из нынешних подборок мастрида. Недавно вышли и очень понравились тревожным читателям 2020-го его "Тревожные люди". По бестселлеру "Вторая жизнь Уве" сняли фильм, 8 из 10 на Кинопоиске и две номинации на премию "Оскар". В общем, писательская карьера удалась, признание состоялось.
Роман с длинным названием "Бабушка велела кланяться и передать, что просит прощения" написан от лица восьмилетней девочки. Первые страниц двадцать я думала, что может быть вообще стоить прочесть книгу сыну вслух, очень уж мило-поучительным выглядел сюжет.
Безошибочно попадающая в целевую аудиторию книжных фриков девочка "не как все" с шарфом Гриффиндора на шее страдает от школьного буллинга, а ее безрассудная бабушка тащит внучку среди ночи в зоопарк и отстреливается от охранников и полицейских обезьяньими какашками (впоследствии, правда, оказавшимися просто комьями земли), чтобы заместить веселыми грустные воспоминания девочки об этом дне.
Правда, примерно с того момента в книге, когда бабушка умирает, оставляя после себя множество сложных вопросов и ни одного простого ответа, порыв читать книгу ребенку пропадает, а вот желание скорее узнать все самой, наоборот, разрастается.
Бакману всенепременно нужно вести мастер-класс по разгону писательской фантазии: он одновременно придумывает и реальный романный мир, в котором существуют главная героиня, ее бабушка, мама и соседи, и мир сказки, в который бабушка и внучка путешествовали вдвоем каждый вечер перед сном.
Два этих мира оказываются связаны настолько крепко и бесспорно, что даже сухарь-взрослый нетерпеливо перелистывает страницы (мог бы - дергал бы автора за полу пиджака), чтобы узнать, что же будет дальше в сказке, потому что хочет (и без сказочной подсказки не может) понять, как все было "на самом деле".
Итог - еще одна сильная книга о нас с вами с крепко сбитым (ногтя не всунешь) сюжетом, остроумно написанная, полная аллюзий на современный качественный масскульт вроде Гарри Поттера и Людей Икс и скандинавскую детскую классику вроде "Братьев Львиное сердце" Астрид Линдгрен. Терапевтический эффект для родителей, страдающих от собственной неидеальности, тоже имеется.
Тремя словами - очарована и рекомендую.
Продолжаю (испытывая легкое чувство вины) читать современную зарубежную прозу вместо отечественной, делюсь с вами лучшим.
Книги Фредрика Бакмана есть, пожалуй, в любой из нынешних подборок мастрида. Недавно вышли и очень понравились тревожным читателям 2020-го его "Тревожные люди". По бестселлеру "Вторая жизнь Уве" сняли фильм, 8 из 10 на Кинопоиске и две номинации на премию "Оскар". В общем, писательская карьера удалась, признание состоялось.
Роман с длинным названием "Бабушка велела кланяться и передать, что просит прощения" написан от лица восьмилетней девочки. Первые страниц двадцать я думала, что может быть вообще стоить прочесть книгу сыну вслух, очень уж мило-поучительным выглядел сюжет.
Безошибочно попадающая в целевую аудиторию книжных фриков девочка "не как все" с шарфом Гриффиндора на шее страдает от школьного буллинга, а ее безрассудная бабушка тащит внучку среди ночи в зоопарк и отстреливается от охранников и полицейских обезьяньими какашками (впоследствии, правда, оказавшимися просто комьями земли), чтобы заместить веселыми грустные воспоминания девочки об этом дне.
Правда, примерно с того момента в книге, когда бабушка умирает, оставляя после себя множество сложных вопросов и ни одного простого ответа, порыв читать книгу ребенку пропадает, а вот желание скорее узнать все самой, наоборот, разрастается.
Бакману всенепременно нужно вести мастер-класс по разгону писательской фантазии: он одновременно придумывает и реальный романный мир, в котором существуют главная героиня, ее бабушка, мама и соседи, и мир сказки, в который бабушка и внучка путешествовали вдвоем каждый вечер перед сном.
Два этих мира оказываются связаны настолько крепко и бесспорно, что даже сухарь-взрослый нетерпеливо перелистывает страницы (мог бы - дергал бы автора за полу пиджака), чтобы узнать, что же будет дальше в сказке, потому что хочет (и без сказочной подсказки не может) понять, как все было "на самом деле".
Итог - еще одна сильная книга о нас с вами с крепко сбитым (ногтя не всунешь) сюжетом, остроумно написанная, полная аллюзий на современный качественный масскульт вроде Гарри Поттера и Людей Икс и скандинавскую детскую классику вроде "Братьев Львиное сердце" Астрид Линдгрен. Терапевтический эффект для родителей, страдающих от собственной неидеальности, тоже имеется.
Тремя словами - очарована и рекомендую.
Эдуард Лимонов "Дневник неудачника, или секретная тетрадь"
Года два назад я влюбилась. Знаете, такое бывает: не видишь человека, и вроде все хорошо, а видишь - и не понимаешь, как мог жить без него.
Это я про Эдуарда Лимонова, Эдичку, трогательного русского интеллигента, заброшенного в непонятную и чужую Америку, не приспособленного к жизни, безработного, рефлексирующего и до острой сердечной боли родного. Трудно представить, как в совсем другую эпоху, на другой стороне шарика жил человек, настолько близкий, как будто бы это не он - а ты.
Сейчас я, конечно, возвысила себя до недостижимых высот. Где я - а где Лимонов, скажете вы и будете правы. Не моя вина, а остро выраженный побочный эффект прозы Лимонова: читатель намертво срастается с повествователем, не может - и не хочет - отделить себя от него.
Это я живу в номере дешевого отеля, это я стою на балконе и смотрю на снег, это я представляю, что все входящие в лобби отеля - мои гости, это я вспоминаю все свои не сложившиеся любови, это я не могу найти причину вставать по утрам с постели.
Это я люблю белое и ношу одну из четырех своих пар белых брюк в любое время года. Это я - полупьяный русский интеллигент в аптауне на Бродвее, и это я разговариваю сам с собой.
«"Ты как луч света в темном царстве. Вокруг грязь, а ты в белых брюках прешь, ошарашиваешь собой. Правильно!" Комплимент сделал».
Эдичка - это концентрированная любовь, неразбавленная неприкаянность, стопроцентная острота восприятия. Я очень люблю писателя Лимонова, я чувствую себя живой, когда читаю его прозу.
Года два назад я влюбилась. Знаете, такое бывает: не видишь человека, и вроде все хорошо, а видишь - и не понимаешь, как мог жить без него.
Это я про Эдуарда Лимонова, Эдичку, трогательного русского интеллигента, заброшенного в непонятную и чужую Америку, не приспособленного к жизни, безработного, рефлексирующего и до острой сердечной боли родного. Трудно представить, как в совсем другую эпоху, на другой стороне шарика жил человек, настолько близкий, как будто бы это не он - а ты.
Сейчас я, конечно, возвысила себя до недостижимых высот. Где я - а где Лимонов, скажете вы и будете правы. Не моя вина, а остро выраженный побочный эффект прозы Лимонова: читатель намертво срастается с повествователем, не может - и не хочет - отделить себя от него.
Это я живу в номере дешевого отеля, это я стою на балконе и смотрю на снег, это я представляю, что все входящие в лобби отеля - мои гости, это я вспоминаю все свои не сложившиеся любови, это я не могу найти причину вставать по утрам с постели.
Это я люблю белое и ношу одну из четырех своих пар белых брюк в любое время года. Это я - полупьяный русский интеллигент в аптауне на Бродвее, и это я разговариваю сам с собой.
«"Ты как луч света в темном царстве. Вокруг грязь, а ты в белых брюках прешь, ошарашиваешь собой. Правильно!" Комплимент сделал».
Эдичка - это концентрированная любовь, неразбавленная неприкаянность, стопроцентная острота восприятия. Я очень люблю писателя Лимонова, я чувствую себя живой, когда читаю его прозу.
Несколько прекрасных цитат Лимонова для тех, кто вряд ли доберется до книги, но хочет понять, о чем речь:
*
Иногда даже в глазах очень богатых людей, чаще женщин, я вижу дикую грусть. Они воспитанны, прилежны, никогда не скажут, не нарушают. Но тут мне хочется обнять иссохшую старуху — бывшую красавицу, — прижать ее седую голову к своей груди и гладить по снежным коротким волосам, говоря:
— Ну что, моя маленькая, ну успокойся. Ну, ничего. Ну пусть так, ну что делать! Успокойся!
Маленькая моя!
*
Я никогда не встречал человека, перед которым мог бы стать на колени, поцеловать ему ноги и ниц преклониться. Я бы это сделал, я пошел бы за ним и служил бы ему. Но нет такого. Все служат. Никто не ведет. Новой дорогой никто не ведет. Никого нет на дороге.
*
Все известно. Скушно. Кто постарел, кто стареет. Кто собирается стареть. Как будто цель жизни — чтобы Эн устроился на работу куда хочет, Эм выпустил книгу, Е удачно вышла замуж, а Дэ купил браунстоун в Нью-Йорке.
*
Когда-то садился на велосипед и плакал. Хмурое черное небо, апрельский полдень.
Грустно и тогда, когда в марте-апреле нет денег и идет снег. Как сейчас. И облупленные здания Бродвея в окне, и ты переселился — четвертый день живешь в грязном отеле один, уже второй год без любви. И двадцать пять центов на телефонные звонки. А еще грустнее, когда тонко-тонко потянет горячим железом от внезапно затопленного радиатора. И как расплачешься тогда…
Сухо щелкает утюг, идет длинный снег. О, какая отрава эти весенние дни! И не прижмешься щекой к телу своего автомата. А ведь легче бы стало.
*
Русская газета пахнет могилой и старческой мочой. Все убого и жалко — старомодно, от объявлений до статей и стихов. Даже рецепт тети Моти — что бы вы думали? Ну конечно, «Постный перловый суп». Что может быть гаже и беднее! Не гусь, не утка, не просто здоровый кусок мяса, а постный перловый суп. Вот какие мы убогонькие, серенькие, замученные жизнью.
*
Была невероятная гроза. Он выключил свет — лег загорелый и голый в постель, забился в самый угол и с удовольствием лежал. Окна были открыты, из Нью-Йорка приносило запах свежей зелени и дождя. Он впервые почувствовал острое удовольствие от того, что одинок, что отель, где он живет, — дешевый и грязный, что населяют его алкоголики, наркоманы и проститутки, что он не работает и живет на нищенское стыдное пособие по социальному обеспечению, но зато целыми днями гуляет.
Гроза неотразимо доказывала, что и в этом состоянии он счастлив. И он лежал, улыбался в темноте и слушал грозу, время от времени поднимаясь и в нее выглядывая.
*
Иногда даже в глазах очень богатых людей, чаще женщин, я вижу дикую грусть. Они воспитанны, прилежны, никогда не скажут, не нарушают. Но тут мне хочется обнять иссохшую старуху — бывшую красавицу, — прижать ее седую голову к своей груди и гладить по снежным коротким волосам, говоря:
— Ну что, моя маленькая, ну успокойся. Ну, ничего. Ну пусть так, ну что делать! Успокойся!
Маленькая моя!
*
Я никогда не встречал человека, перед которым мог бы стать на колени, поцеловать ему ноги и ниц преклониться. Я бы это сделал, я пошел бы за ним и служил бы ему. Но нет такого. Все служат. Никто не ведет. Новой дорогой никто не ведет. Никого нет на дороге.
*
Все известно. Скушно. Кто постарел, кто стареет. Кто собирается стареть. Как будто цель жизни — чтобы Эн устроился на работу куда хочет, Эм выпустил книгу, Е удачно вышла замуж, а Дэ купил браунстоун в Нью-Йорке.
*
Когда-то садился на велосипед и плакал. Хмурое черное небо, апрельский полдень.
Грустно и тогда, когда в марте-апреле нет денег и идет снег. Как сейчас. И облупленные здания Бродвея в окне, и ты переселился — четвертый день живешь в грязном отеле один, уже второй год без любви. И двадцать пять центов на телефонные звонки. А еще грустнее, когда тонко-тонко потянет горячим железом от внезапно затопленного радиатора. И как расплачешься тогда…
Сухо щелкает утюг, идет длинный снег. О, какая отрава эти весенние дни! И не прижмешься щекой к телу своего автомата. А ведь легче бы стало.
*
Русская газета пахнет могилой и старческой мочой. Все убого и жалко — старомодно, от объявлений до статей и стихов. Даже рецепт тети Моти — что бы вы думали? Ну конечно, «Постный перловый суп». Что может быть гаже и беднее! Не гусь, не утка, не просто здоровый кусок мяса, а постный перловый суп. Вот какие мы убогонькие, серенькие, замученные жизнью.
*
Была невероятная гроза. Он выключил свет — лег загорелый и голый в постель, забился в самый угол и с удовольствием лежал. Окна были открыты, из Нью-Йорка приносило запах свежей зелени и дождя. Он впервые почувствовал острое удовольствие от того, что одинок, что отель, где он живет, — дешевый и грязный, что населяют его алкоголики, наркоманы и проститутки, что он не работает и живет на нищенское стыдное пособие по социальному обеспечению, но зато целыми днями гуляет.
Гроза неотразимо доказывала, что и в этом состоянии он счастлив. И он лежал, улыбался в темноте и слушал грозу, время от времени поднимаясь и в нее выглядывая.
"С газетой покончено. Это была моя последняя авантюра. Последняя вспышка затянувшейся молодости. Отныне я — благоразумный и нетребовательный литератор средней руки.
(«Средняя рука» — подходящее название для мужского клуба...)"
Сергей Довлатов. Марш одиноких.
(«Средняя рука» — подходящее название для мужского клуба...)"
Сергей Довлатов. Марш одиноких.
«Я – этнический писатель, живущий за
4 000 километров от своей аудитории»
Александр Генис «Довлатов и окрестности».
Впервые книга вышла в 1999 году, сейчас она переиздана в «Редакции Елены Шубиной» в новой редакции, хотя нового там всего ничего: два эссе о Довлатове-редакторе и о фильме «Довлатов» режиссера Алексея Германа-младшего. Но старого варианта книги я не читала, а к жизни и творчеству Довлатова отношусь с восхищением и завистью (да, докатилась, завидую мертвым), поэтому мне было интересно.
Генис закончил писать книгу через семь лет после смерти ее героя. Для него она стала «окончательным некрологом» Довлатову.
Оставшись по большей части неизменным, текст книги и через тридцать с лишним лет после смерти Довлатова несет в себе печать растерянности. Кажется, автор не может понять, как это: был Довлатов – и вот нет его.
С другой стороны, это не тоскливое перечисление достоинств почившего в бозе любимца поколения. Скорее – это гимн его жизни, с цитатами, живыми сценками, историями о взаимоотношениях русских писателей в Америке. Местами очень смешно.
«Знакомый с кавказской мнительностью Бахчанян придумал издавать роскошный журнал исключительно южных авторов. Помимо самого Вагрича и Довлатова в нем печатались бы Окуджава, Искандер, Ахмадулина, Олжас Сулейменов. Называться журнал должен был «Чучмек».
С большой любовью – так, что завидуешь и даже злишься («вот повезло, а я…») – Генис пишет о просуществовавшей год газете Довлатова «Новый Американец», в которой он и сам работал:
«”Новый американец” оказался последним коммунистическим субботником. “Свободный труд свободно собравшихся людей” позволял нам обменивать долги на надежды».
Редакционные планерки, где солировал Довлатов, становились стендапами, собиравшими народ со всех окрестностей. Они были так популярны, что Довлатов даже в шутку подумывал полностью перевести газету в устный формат, чтобы сэкономить на типографских услугах.
Довлатов любил свое детище, а вот журналистику вообще – нет.
«Он не дорожил чужим мнением, так же, как и собственным, которое было либо случайным, либо банальным. Цифры его раздражали, факты – особенно достоверные – тоже. Оставались только литературные детали, которые он обкатывал на полигоне газетной полосы».
Есть в книге Гениса и забавный страноведческий материал: он пишет, как жил Брайтон времен третьей эмиграции, цитирует вывески (магазин «Оптека», где можно заказать очки и купить аспирин, кафе “Capuccino” с русским переводом “Пельмени” на вывеске), и очень любопытные истории из жизни эмигрантских писателей (и не только) третьей волны.
Например, мы узнаем, что псевдоним Лимонов придумал Эдуарду Савенко все тот же Вагрич Бахчанян, сотрудник «Нового американца» и друг Довлатова, «художник и литератор-концептуалист», как его описывает Википедия. Что Солженицын в Америке в упор не замечал других русских писателей, даже признанного Нобелевского лауреата Бродского, всем своим видом давая понять, что неразумные современники радуются жизни на благословенном континенте, в то время как он пережидает расставание с Родиной. Говорят, слегка смягчился, когда какая-то из американских газет (не «Новый американец», конечно) опубликовала снимок, запечатлевший его игру в большой теннис на собственном корте в Вермонте.
Генис часто цитирует самого Довлатова; цитаты точные и к месту – такие, что хочется выписать и прикнопить к доске.
«Всю жизнь я дул в подзорную трубу и удивлялся, что нету музыки. А потом внимательно глядел в тромбон и удивлялся, что ни черта не видно. Мы осушали реки и сдвигали горы, а теперь ясно, что горы надо вернуть обратно, и реки – тоже».
Правда, порой в книге встречаются загадочно-заумные размышления автора о литературе, вроде «кривизна поэтического континуума – свойство его физики», но таких мест немного. В остальном – это любопытное и напитанное юмором наблюдение за Довлатовым, окружавшими его людьми, эпохой и самим собой.
Одним словом, советую.
4 000 километров от своей аудитории»
Александр Генис «Довлатов и окрестности».
Впервые книга вышла в 1999 году, сейчас она переиздана в «Редакции Елены Шубиной» в новой редакции, хотя нового там всего ничего: два эссе о Довлатове-редакторе и о фильме «Довлатов» режиссера Алексея Германа-младшего. Но старого варианта книги я не читала, а к жизни и творчеству Довлатова отношусь с восхищением и завистью (да, докатилась, завидую мертвым), поэтому мне было интересно.
Генис закончил писать книгу через семь лет после смерти ее героя. Для него она стала «окончательным некрологом» Довлатову.
Оставшись по большей части неизменным, текст книги и через тридцать с лишним лет после смерти Довлатова несет в себе печать растерянности. Кажется, автор не может понять, как это: был Довлатов – и вот нет его.
С другой стороны, это не тоскливое перечисление достоинств почившего в бозе любимца поколения. Скорее – это гимн его жизни, с цитатами, живыми сценками, историями о взаимоотношениях русских писателей в Америке. Местами очень смешно.
«Знакомый с кавказской мнительностью Бахчанян придумал издавать роскошный журнал исключительно южных авторов. Помимо самого Вагрича и Довлатова в нем печатались бы Окуджава, Искандер, Ахмадулина, Олжас Сулейменов. Называться журнал должен был «Чучмек».
С большой любовью – так, что завидуешь и даже злишься («вот повезло, а я…») – Генис пишет о просуществовавшей год газете Довлатова «Новый Американец», в которой он и сам работал:
«”Новый американец” оказался последним коммунистическим субботником. “Свободный труд свободно собравшихся людей” позволял нам обменивать долги на надежды».
Редакционные планерки, где солировал Довлатов, становились стендапами, собиравшими народ со всех окрестностей. Они были так популярны, что Довлатов даже в шутку подумывал полностью перевести газету в устный формат, чтобы сэкономить на типографских услугах.
Довлатов любил свое детище, а вот журналистику вообще – нет.
«Он не дорожил чужим мнением, так же, как и собственным, которое было либо случайным, либо банальным. Цифры его раздражали, факты – особенно достоверные – тоже. Оставались только литературные детали, которые он обкатывал на полигоне газетной полосы».
Есть в книге Гениса и забавный страноведческий материал: он пишет, как жил Брайтон времен третьей эмиграции, цитирует вывески (магазин «Оптека», где можно заказать очки и купить аспирин, кафе “Capuccino” с русским переводом “Пельмени” на вывеске), и очень любопытные истории из жизни эмигрантских писателей (и не только) третьей волны.
Например, мы узнаем, что псевдоним Лимонов придумал Эдуарду Савенко все тот же Вагрич Бахчанян, сотрудник «Нового американца» и друг Довлатова, «художник и литератор-концептуалист», как его описывает Википедия. Что Солженицын в Америке в упор не замечал других русских писателей, даже признанного Нобелевского лауреата Бродского, всем своим видом давая понять, что неразумные современники радуются жизни на благословенном континенте, в то время как он пережидает расставание с Родиной. Говорят, слегка смягчился, когда какая-то из американских газет (не «Новый американец», конечно) опубликовала снимок, запечатлевший его игру в большой теннис на собственном корте в Вермонте.
Генис часто цитирует самого Довлатова; цитаты точные и к месту – такие, что хочется выписать и прикнопить к доске.
«Всю жизнь я дул в подзорную трубу и удивлялся, что нету музыки. А потом внимательно глядел в тромбон и удивлялся, что ни черта не видно. Мы осушали реки и сдвигали горы, а теперь ясно, что горы надо вернуть обратно, и реки – тоже».
Правда, порой в книге встречаются загадочно-заумные размышления автора о литературе, вроде «кривизна поэтического континуума – свойство его физики», но таких мест немного. В остальном – это любопытное и напитанное юмором наблюдение за Довлатовым, окружавшими его людьми, эпохой и самим собой.
Одним словом, советую.
У меня снова осень имени Бориса Рыжего. В прошлом году в это же время читала его стихи и думала, что вот было бы здорово познакомиться с его сыном Артёмом, с человеком чуть младше меня, которому Рыжий посвящал стихи.
А сегодня узнала, что не познакомлюсь уже никогда. В феврале 2021 года Артем умер в Израиле. Ему было столько же лет, сколько отцу - 27.
***
Ирине
Не вставай, я сам его укрою,
спи, пока осенняя звезда
светит над твоею головою
и гудят сырые провода.
Звоном тишину сопровождают,
но стоит такая тишина,
словно где-то четко понимают,
будто чья-то участь решена.
Этот звон растягивая, снова
стягивая, можно разглядеть
музыку, забыться, вставить слово,
про себя печальное напеть.
Про звезду осеннюю, дорогу,
синие пустые небеса,
про цыганку на пути к острогу,
про чужие чёрные глаза.
И глаза закрытые Артема
видят сон о том, что навсегда
я пришел и не уйду из дома…
И горит осенняя звезда.
А сегодня узнала, что не познакомлюсь уже никогда. В феврале 2021 года Артем умер в Израиле. Ему было столько же лет, сколько отцу - 27.
***
Ирине
Не вставай, я сам его укрою,
спи, пока осенняя звезда
светит над твоею головою
и гудят сырые провода.
Звоном тишину сопровождают,
но стоит такая тишина,
словно где-то четко понимают,
будто чья-то участь решена.
Этот звон растягивая, снова
стягивая, можно разглядеть
музыку, забыться, вставить слово,
про себя печальное напеть.
Про звезду осеннюю, дорогу,
синие пустые небеса,
про цыганку на пути к острогу,
про чужие чёрные глаза.
И глаза закрытые Артема
видят сон о том, что навсегда
я пришел и не уйду из дома…
И горит осенняя звезда.